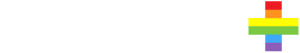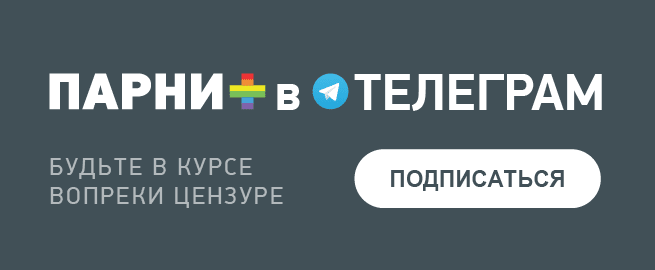Статья американского историка литературы Сары Карпухиной эксклюзивно для «Парни ПЛЮС»
Меня зовут Сара Карпухина. Я родилась и выросла в Иркутске. С 2005 года живу в США. Я историк литературы (MA, Университет Вирджинии, 2007 г.; PhD, Университет Висконсина, 2015 г.) и преподаватель. Кроме того, в этом году я организую читательский онлайн-клуб «Квир по-русски» для русскоязычных эмигрантов.
Один из признаков среды, где принято насилие, – принцип «каждый сам за себя». Даже если у человека нет опыта взросления в одном из микрорайонов Иркутска в 1990-е и ранние 2000-е, как у меня, кажется интуитивно понятным, что выживание в ситуации общего насилия допускает, делает необходимым нарушение связей, правил и норм социальности. Насилие – состояние одиночества, в котором социальные связи не строятся, из которого социальные навыки вытесняются. Травмирующий исключает себя и травмируемого из области возможного общего действия. Со временем я узнала, что Томас Гоббс так описывает первобытную жизнь людей, пока насилие не монополизируется государством-левиафаном.
Весной 2023 года, когда я начала преподавать американским студентам курс о русскоязычной квир-культуре в Университете Висконсина в Мэдисоне, на фоне преступлений российской армии в Украине и шквала законов против ЛГБТК+ людей по обе стороны океана, я вернулась к этому впечатлению и отчасти пересмотрела его. Насилие никуда не делось, но, во-первых, современное насилие таргетировано, направлено против группы, а во-вторых, в поисках защиты от него сложно апеллировать к государству. И в России, и в США к такому насилию нередко призывают сами представители государственной власти. На курсе мы со студентами говорим о том, что в этих обстоятельствах ответом может быть прямое (рискованное) протестное действие против государственной риторики, искусство – и теоретизирование.
В ответ на насилие против сообщества может потребоваться новый взгляд на старые нормы и правила. И здесь возникает потребность, с одной стороны, в радикальном критическом отношении к старым правилам, а с другой, в установлении нового, более высокого уровня правил и норм. Чем радикальнее интеллектуальная критика, тем больше требуется новых правил. Если подняться от индивида к сообществу, выживание возможно, только если нарушать правила по правилам. Именно поэтому квир-активизм организуется в квир-теорию, феминизм в феминистическую теорию, антиколониализм в деколониальную теорию. Активизму группы оказывается нужна самая общая философия. Живой опыт, тот самый lived experience, который часто принимают за единственный критерий реальности, хочет быть переведен на язык общего знания. Квир-люди хотят преодолеть индивидуальную изоляцию, и если любви и травмы достаточно, чтобы узнать себя в сообществе, то чтобы организоваться среди большинства, центральным становится знание.
Созданная насилием идентичность будет перепридумывать весь мир на других основаниях, где насилию положен концептуальный предел. Идентичность в этом случае – это напоминание о насилии. Осторожно говорить о травме на общем языке нужно учиться, это всегда долгая, кропотливая работа по расширению этического взгляда на мир для всех. После прекращения насилия и восстановления безопасности «теория», этическая рациональность – это, кажется, единственный политический ответ на насилие, убийство, войну, опасность, риск, конфликт, угрозу, травму.
В этой же динамике долгосрочной работы с травмой источник ненасильственного протеста, репаративной эпистемологии в современной западной квир-теории, реориентации современного западного авангарда с «мужского» языка войны на «женский» язык заботы. Политическую работу нельзя долго делать через насилие. Само насилие не перерабатывается в социальное правило. Насилие – это подрыв социального, этот хаос нельзя долго или вполне контролировать. Насилие не может долго оставаться окончательным или единственным источником этической ясности или политической общности.
«Расставляющая всех по своим местам, проясняющая, очистительная война» это бесконечная война. В социуме насилию нужна альтернатива, и социализировать можно только травму. Рано или поздно кто-то из задетых насилием людей захочет проговорить ненасильственные основания для ясности, которая пришла в мир вместе с насилием, то есть попробует отделить ясность от насилия. Чем больше насилия, тем важнее проясняющий разговор после него. Чем больше этой проясняющей работы, тем меньше вероятность насилия в будущем.
«Теория» – это социальное переживание травмы после и вместо травмы, человеческий ответ на обесчеловечивание, социальное «оглядывание» разрыва социальности. Не только для Фредерика Дугласа, Мартина Лютера Кинга, Одри Лорд, Мишеля Фуко, Моник Виттиг, Симоны Вейль, Евы Седжвик и Джудит Батлер, а, кажется, для всех желание, речь и насилие связаны, и насилие – это новое, удвоенное «побуждение к дискурсу». Никакого другого разделяемого между людьми долгосрочного смысла в насилии, кажется, нет.
Люди, отвергающие «теорию», «политику идентичности» или «новую этику», часто делают это, потому что хотят удержаться за насилие. В этом самая заметная общая черта у таких идеологически разных фигур, как Дж. К. Роулинг, российские пропагандисты, верящие им россияне, российская армия, Путин, Константин Богомолов, Милонов и Хинштейн, некоторые члены республиканской партии, Джордан Петерсон, консервативные и религиозные критики вроде Бена Шапиро в США. Они все хотят остаться в логике насилия, сохранить насилие как дешевую альтернативу затратному проясняющему разговору. Они хотят оставить право на насилие либо за собой, либо за кем-то, кому они в данный момент доверяют свою безопасность. Для этого в большей или меньшей степени им нужно не замечать чужую травму.
Сегодня они этого добиваются, уже не столько дискредитируя язык травмы у других, сколько нагнетая язык травмы у себя, при этом максимально ограничивая пространство общего разговора даже в мирное время. Хотя и по разным причинам – ради выгоды, ради власти, ради зрелищности, от скуки, от страха – во всех случаях, вольно или невольно, защищая право на молчание о чужой травме, они защищают свое право на дальнейшее насилие, и наоборот.
Через разнообразящую организующую речь я замечаю и заговариваю в том числе и свои склонность или желание исключать, обесчеловечивать, эксплуатировать, мучить или убивать других людей. Я так преобразую дешевую, эффектную, но ненадежную энергию насилия в когнитивно и эмоционально более дорогостоящую, но надежную энергию сближающей этической рациональности.
Это не значит, что насилие всегда бессмысленно. Страх, гнев, желание защититься оправданы во время нападения. В момент острой опасности сузить внимание и перенаправить агрессию на агрессора важно и нужно. Одним из самых сложных, требующих постоянного внимания и, вероятно, до конца не разрешимых вопросов остается вопрос о границах оправданного гнева, о черте между тем, что можно и что нельзя простить.
Антропологический опыт 20 века показывает, однако, что надолго, надежно, массово укрыться от боли в распределенной агрессии не получается. Попытки социально локализовать насилие, особенно массовое, направив его против одной группы людей, не приводят к долгосрочной безопасности или справедливости. Отчасти это связано с тем, что агрессора нельзя выявить по идентичности, идеологии, полу или ориентации. Это логика посттравматического синдрома. Психологи Стивен Карпман и Эрик Берн, наблюдая на тем, как строят внутрисемейное общение люди, вернувшиеся с Второй мировой войны, вывели деструктивный драматический треугольник, в котором конфликт закрепляет за людьми роли агрессора, жертвы и спасителя. Дело в том, что со временем внимание переключается на идентичность, и насилие распространяется за пределы первоначальной ситуации и проецируется на других людей. За словами Фэнни Лу Хэймер в 1971 году, «Никто не свободен, пока все не свободны», стоят одновременно формулируемые законы когнитивных и социальных наук.
Насколько можно судить по исследованиям травматических расстройств и адаптации, из спирали насилия нет долгосрочного выхода, кроме медленного, внимательного, ответственного перепроговаривания травмы на общих основаниях, переописания мира так, чтобы насилие всем показалось невозможным. В таком перепроговаривании я делаю этически возможным то, чего не случилось в реальности, представляю прошлое другим, чтобы помочь себе в будущем. То, что кажется «теорией» из травматичного прошлого, будет «практикой» из более свободного и безопасного будущего. Это не столько академическое упражнение, сколько практическая необходимость для тех, кто пережил насилие.
Даже если ненасилие – это недостижимый утопический горизонт, берег, с которого эта утопия так хорошо видна и так важна, при взгляде с которого она необходима всем, – неконтролируемость любого насилия, тотальность любой войны в современных условиях. Когда от насилия никому не уйти и не отвернуться, возникает долг более или менее терпеливо размышлять о том, почему оно неприемлемо по сути. В этом смысле такая работа отражает опыт зрелости современного человечества. «Теория», интеллектуальный труд сообщества служит сообществу – при этом косвенно обеспечивая другое, более безопасное будущее для всех.
Текст: Сара Карпухина, США.