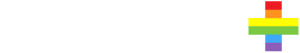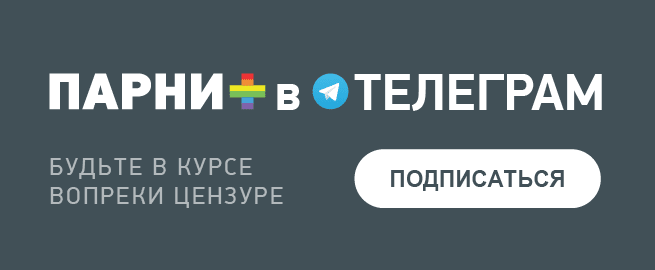Трагическая история немецкой гей-пары в начале XX века
Одним из первых проблемой суицидов в ЛГБТ-сообществе занялся доктор Магнус Хиршфельд (в старой традиции перевода он звался Гиршфельдом), виднейший сексолог и ЛГБТ-активист в Германской Империи и Веймарской республике. Насколько мы знаем, лишь три книги Хиршфельда были переведены на русский. И в одной из них, названной “Сексуальные Катастрофы” включено “прощальное письмо самоубийцы”, адресованное “господину доктору Гиршфельду”.

Магнус Хиршфельд
Сегодня мы публикуем это предсмертное письмо целиком. Оно является полноценной автобиографией: Ганс фон В. излагает свою полную драмы жизнь с самого детства и до момента двойного самоубийства со своим возлюбленным Гиссо, с которым они были вместе семь лет. Предупреждаем, это непростое чтение.
Многоуважаемый господин доктор Гиршфельд!
Было бы нескромно с моей стороны предположить, что вы меня еще помните. Тогда, – это было 20 лет назад, – перед вами стоял стройный блондин 19-ти лет, пришедший к вам в сопровождении своего отца.
Мой отец, государственный советник фон В., спросил меня в день моего рождения, чем он может доставить мне особенную радость. “Твоим согласием”, ответил я. – “Моим согласием?” – “Да, папа”. И здесь я признался ему, что я отдал свою первую любовь некоему мужчине, значительно старше меня. Мой отец вздрогнул и на минуту серьезно задумался. Я поднял свой взор и увидел в его добрых глазах слезы. Наконец он решительно и коротко произнес: “Поедем на днях к доктору Гиршфельду!”
Ваше имя хорошо известно в обществе, и отец уже 10 лет знал о ваших заслугах. Когда мы в один великолепный майский день вернулись от вас домой, я должен был тотчас же отправиться вместе с отцом к моему возлюбленному. Мой славный и добрый отец сказал ему: “Осчастливьте моего сына, он заслужил это!” Этим я обязан был вам, господин медицинский советник! Сегодня, когда я покончу счеты с моей несчастной жизнью, воспоминание о том прекрасном, беззаботном и юношеском майском дне озаряет меня величественным сиянием любви.
Как хорошо вы еще тогда знали нас – особенных людей, отверженных и угнетенных, до такой степени страдающих от своей склонности, что выход у них один – гибель, так как побороть себя невозможно. Эти люди вынуждены погибнуть, как я, как Гиссо, семь лет бывший для меня верным спутником жизни.
Теперь полночь. Две свечи горят на моем письменном столе. Около меня дремлет мой Гиссо, которому снотворный порошок доставил последнее утешительное забытие в жизни. Предо мною лежит мой законченный дневник, а перед глазами я вижу образ моей любимой матери. Пахнут фиалки. Я хочу положить их в узкие холеные руки моего друга. Маленькая печь напевает грустную песню. Только два письма я еще должен написать: одно – моей матери, другое, которым я занят теперь – вам, высокоуважаемый господин медицинский советник. Это единственное, что мне еще остается сделать. В моем решении покончить с собою нет ни малейшего желания рисоваться, никакого сострадания к себе, даже ни капли зазрения совести. Иначе не может быть!
Почему не может быть иначе? Ответом на этот вопрос должна быть история двух братьев, которую я вам сообщаю здесь незадолго до моего прощания с жизнью:
Ганс фон В. и Горст фон В. принадлежали к крупной аристократии великой старой Германской Империи. Их отец был офицером. Дедушка матери был послом при дворе в Б., где восхитительно красивая внучка его, то есть наша мать, два года была фрейлиной королевы. Королева хотела оставить необычайно красивую, интеллигентную и знавшую языки девушку при своем дворе, для чего решила выдать ее замуж за одного из крупнейших государственных деятелей. Но наша мать втайне была помолвлена с нашим отцом и осталась верна своему возлюбленному. Братья нашей матери были офицерами и выдающимися юристами.
В этот момент ожила в моей памяти довольно яркая картина из моей ранней юности. Сверкающая рождественская елка, богато накрытый стол. Я еще маленький и сижу на коленях матери, прижавшись своей белокурой головкой к ее груди. Я получил в подарок куклу, наряженную невестой, и глажу ее. Горст, моложе меня на 2 года, качает своего огромного игрушечного солдата. “Папа, я хотел бы стать таким же длинным солдатом старого Фрица”, сказал он. Стройный мужчина с большим количеством студенческих шрамов на добром лице восхищается маленьким пухленьким Горстом.
Я и Горст – два брата – представляем собою полный контраст. Я был нежен, красивого, тонкого телосложения, с девичьим лицом. Горст был толстым, энергичным. Для меня школа была мученьем, для него ученье – легкая игра. Я был мечтателен, пел, писал стихи и любил свой кукольный театр, для которого уже в девять лет сочинял собственные фантастические пьесы.
Ученье никогда не привлекало меня, и я никогда не понимал, для чего оно нужно. Я предпочитал сидеть возле обожаемой мною матери и глядеть на ее рукоделия, которые я с удовольствием изучил бы сам.
Вскоре мне пришлось проститься с милыми мечтами детства. Чтобы закалить меня для жизненной борьбы, которая вообще была мне не под силу, родители, когда мне минуло 11 лет, отдали меня в кадетский корпус Ораниенштейна, у цветущих берегов Ланы. Там я продолжал мечтать. Начальство и лекторы любили меня, – быть может потому, что я уже с самого начала был для них объектом особого попечения, но товарищей, дразнивших меня “маленькой девочкой”, я не любил и всячески избегал. Только два сверстника были и со мною в дружбе и помогли мне пережить тяжелый переходный возраст. Это были нежные, изумительно красивые аристократы, наравне со мною восхищавшиеся всем прекрасным. Они оба пали на поле битвы в мировую войну. До войны мы вели крепкую дружбу.
Кадетские годы, – для многих лучшая пора жизни, – были для меня ужасным наказанием. Меня беспрестанно дразнили моей немужской походкой, смеялись над моей особенностью – краснеть из-за всякого пустяка, и начальство не было довольно моими успехами. Но зато я был лучше всех в упражнениях, а в стрельбе я стал мастером. На коньках я танцевал вальсы и полонезы, в теннисе и в плавании был весьма ловок, но перед футболом я испытывал страх, ибо он казался мне грубым. Высокий, белокурый кадет однажды сказал мне: “Если бы ты был девушкой, я женился бы на тебе”. Совершенно отчетливо я помню боль, которую испытал тогда от сознания, что я не девушка.
Затем я поехал в Гросс-Лихтерфельде. Здесь началась моя жизнь. Я должен был ездить верхом и танцевать. Ах, танцы, они были для меня великим счастьем! Моя зрелость, незаметно для меня начавшаяся в 15 лет, внешне проявлялась в танцах… и легком флирте с белокурыми и стройными товарищами. Когда один из них пытался однажды меня “затронуть”, я был возмущен. Начавшееся тогда у меня знакомство с онанизмом я считал “ужасной тайной”. Но сердце мое принадлежало моим мечтам. Мечты заполняли мою тогдашнюю жизнь. Я видел себя юным танцором на сцене, залитой огнями рампы. Все мои мысли словно танцевали. Таким образом я стал первым танцором в главном корпусе. Все дамы желали танцевать со мной. Спустя некоторое время я тайно стал брать уроки у известного балетмейстера, выдающегося художника. Когда он стал домогаться обладания моим телом, обещая мне все блага земные, – я перестал ходить к нему. Я рассказал об этом своему хорошему товарищу, который впервые объяснил мне, что есть мужчины-гомосексуалисты. Я пришел в ужас.
После этого я сделался учеником одной знаменитой танцовщицы. Я не хотел отказаться от своей заветной мечты, а потому усердно занимался. У этой танцовщицы я получил основные познания для моей профессии, потребовавшей от меня тяжелой борьбы.
Сдав экзамен на чин прапорщика, я признался своим родителям, что хочу стать танцовщиком. Они и все мои родственники были вне себя от возмущения. Мой добрый отец всячески отговаривал меня. За ним увещевал меня мой брат, поступивший в Боннский университет и высоко ставивший традиции семьи. Его доводы и представления казались мне ребяческими. Так они и не переубедили меня. Я стал “партнером” своей учительницы, бывшей на 10 лет старше меня, и предпринял с ней турне.
Скоро я завоевал себе имя. Ганнес В., как я себя называл, пользовался большим вниманием прессы и публики. Я исполнял испанские, итальянские и румынские танцы. Особенно нравились мои испанские танцы. Когда я после этого выступал в Берлине, отец был очевидцем моего успеха и помирился со мной. Некоторые из моих ближайших родственников, тоже увидев меня на сцене, с благодарностью пожимали мне руку.
Я зарабатывал очень много, повсюду меня чествовали и баловали. Мужчина, следовавший за мной по всем городам, добился моей любви. Семь лет продолжалось мое первое, глубокое счастье с другом… Мой друг, изучавший философию, совершенно овладел моей душой. Эта дружба была одной из самых чистых и идеальных дружб, которые когда-либо связывали двух урнингов <геев>, и она продолжалась до тех пор, покуда мой друг не признался мне, что он однажды ночью забылся и изменил мне. Тут моя любовь сразу выдохлась и, несмотря на все мольбы моего друга, я не мог ему простить. Измена всегда была непонятна мне. Сам я ставил верность и благодарность превыше всего в жизни человека.
Между тем мой брат возмужал, и я, очутившийся опять в одиночестве, пытался восстановить ослабевшую братскую связь. Я положительно протянул своему брату руки. Я брал его с собой на вагнеровские игры в Байройте, предпринял с ним прогулку по Северному морю, приглашал его к себе в мою уютную берлинскую квартиру, знакомил его с выдающимися художниками сцены и так далее. Но он ничем не бывал доволен, всех и все критиковал, и, когда вернулся домой к родителям, сумел изобразить всю мою жизнь в таких красках, что я был возмущен. Это совершенно не соответствовало правде…
Я жестоко страдал из-за поведения моего брата, но любил его настолько, что готов был мириться с его характером и его романтическими похождениями ловеласа. Но он все считал глупостью, относился ко всему небрежно, в то время, как меня все глубоко интересовало. Мой брат ничего не воспринимал всерьез; его интересовало только студенческо-корпорантская жизнь. Я старался принимать участие в этой жизни, хотя она была мне абсолютно чуждой. Я никак не мог понять, для чего нужно драться, обезображивать друг другу лица и напиваться, как свиньи. Еще менее я мог согласиться со странными понятиями о чести, казавшимися мне допотопными. Несмотря на это, я молчал, чтобы не оскорбить брата.
Для нашей жизни мне нужны были большие суммы: брат был бережливым только тогда, когда бывал в родительском доме. Мой гардероб тоже стоил мне больших денег, главным образом, обувь, бывшая для меня фетишем, и я покупал всегда самую дорогую. Принадлежности туалета, украшавшие мои столики, скорее подходили для дамы. Но зато мой брат был библиофилом, а эта страсть тоже требовала немалых сумм, отказать в которых я ему не смел…
Я все время пытался овладеть сердцем и душой Горста, но горько чувствовал, что самое ценное, чего я жаждал, не только удаляется от меня, но вообще никогда мне не принадлежало. И я несказанно страдал…
Я решил повернуть русло моей жизни и обручился с танцовщицей. Она была из весьма хорошей семьи и пользовалась безупречной репутацией. Это была американская немка, ведшая весьма скромную жизнь со своей матерью, очень порядочной дамой. Горст сказал: “Невозможно, она из балета!” “Все-таки возможно”, – сказала моя добрая мать. И помолвка состоялась. Я жил всецело ради невесты и деятельно обсуждал наши совместные цели. Моя мать была восхищена Алисой. Я и Алиса жаждали выдвинуться, поэтому мы были прилежны и написали художественную пьесу, с которой и хотели предпринять успешное турне по Рейнской области. Но тут внезапно скончался мой отец, вследствие чего сразу изменились наши обстоятельства. Моя энергичная и умная мать быстро нашла новый источник для существования, открыв женский пансион. Я и мой брат, работавший теперь в качестве референдария, всячески помогали ей.
Между тем Алиса познакомилась с богатым господином. Богатство прельстило ее. Со мною она могла бы добиться денег только путем совместной работы. И она покинула меня. Она вышла замуж за богача и зажила роскошной жизнью. Это было накануне мировой войны.
Война. Болезнь глаз помешала мне отправиться на фронт в качестве офицера, чего я очень добивался. Пришлось стать добровольцем-санитаром. Я искал забвения. В непривычной и утомительной работе я нашел утешение…
Здесь, у коек раненых, я забыл все разочарования жизни. Я переродился, ибо у меня были только обязанности, которые всецело занимали меня. Мой брат из-за сердечной болезни был освобожден от военной службы. Он быстро сдал экзамены на звание ассесора и вступил в сословие присяжных поверенных.
В Заблотове, в Галиции, я схватил дизентерию. Когда после долгомесячного пребывания в госпитале я получил отпуск на родину, мой брат оказал мне возмутительный прием. Чтобы не быть для него в тягость, я тотчас же покинул его дом и опять явился к военным властям. Меня отправили в Румынию. В Бухаресте я познакомился с молодым раненым офицером, за которым я ухаживал в госпитале. Я почувствовал к нему глубокую душевную симпатию. Я ему тоже понравился и вскоре мы заключили серьезную дружбу. Родом мы были из одного города. Его зовут Гиссо. Рана в бедерной части сделала его негодным к военной службе…
Мой друг Гиссо лежит около меня в то время, когда я вам пишу это последнее мое письмо. Гиссо в течение десяти лет был для меня самоотверженнейшим и вернейшим другом, шагавшим рядом со мной в годы и блеска, и уныния; он был мне верен до конца. Ах, эти тяжелые, послевоенные годы!
Мы рука об руку защищали нашу измученную родину от анархии в дни революции. В дни инфляции мы видели, как гибнут наши мелкие сбережения, которые начали было расти под умелым управлением Гиссо. Он же был очевидцем несчастного случая, сделавшего меня негодным для балета: я упал с авансцены. После этого мы с болью в сердце стали распродавать наши драгоценности и серебро. Мы вынуждены были постепенно разбазаривать всю обстановку нашей берлинской квартиры, покуда в один горький для нас день мы не увидели, что бедны, как церковные крысы.
И я обратился за помощью к моему брату. Он был помолвлен с богатой молодой девушкой и имел хорошую практику в собственном доме. Хотя он весьма прилично содержал нашу бедную мать, лишившуюся при инфляции своего наследства, все же он был достаточно богат, чтобы помочь своему единственному брату, не по своей вине очутившемуся в тяжелом положении.
“Ни одного пфеннига!” – отрезал мой брат. Я и Гиссо заклинали его всеми святыми. Тогда он с сарказмом крикнул нам: “Вы – гомосексуалисты, которых преследует уголовный закон, поэтому вам нечего ждать от меня помощи!” Словно стрелы пронзили наши сердца! Но мы не сдались. Мы были ранены, но не сражены.
Мы отправились к отцу Гиссо, весьма важному господину, бывшему офицеру. Холодный человек произнес: “Если Гиссо хочет вернуться домой без вас, милостивый государь, то я ничего против не имею. Вы ведь не потребуете, чтобы я признал его развращенного друга, привившего ему губительный порок”. “Прощайте!” – крикнул сын отцу и, обратившись ко мне, добавил: “Пойдем, мой Ганс, теперь ты один у меня на свете”.
И мы продолжали наш тернистый путь. Мы отправились к моему дяде, который в молодости был привлечен к суду по обвинению в нарушении параграфа закона, воспрещающего гомосексуализм. Только благодаря помощи моего отца ему удалось выйти из беды. Он любезно принял нас и пригласил к столу. Когда мы рассказали ему о нашем положении и просили помочь, он спросил: “Правда ли, что вы любите друг друга?” – “Да, дядя”. Пауза. “В сексуальном отношении тоже?” – “Да, дядя”. Тут он принял вид почтенного человека, сознающего свое – ханжеское, мизерное – превосходство и сказал: “В таком случае я не могу вам помочь, ибо это означало бы содействовать противоестественным отношениям, караемым уголовным законом”. Мы ему не ответили, хотя было бы правильно сказать, что нам известно его прошлое. С гордо поднятыми головами мы вышли от него, держа друг друга за руки.
Таков же был результат посещения нами весьма богатой тети Гиссо, которая бросила нам в лицо обвинение в “грязной связи”. Так нас принимали повсюду, где мы просили помощи или совета. Даже у наших наилучших интимных друзей, которые раньше сильно ценили нашу дружбу, мы не встретили сострадания. Мы были одиноки, словно находились на пустынном острове среди бушующего моря.
Мы искали должности, какой-либо работы. Долго мы ничего не находили, наконец, моему другу, ввиду его военной инвалидности, предложили должность бухгалтера, которая нас едва могла кормить. Но как благодарны мы были за это! Мы страдали лишь потому, что нам пришлось отказаться от уютной квартирки в берлинском Вестене.
Моя любимая мать, поскольку это ей удавалось, втайне помогала мне, отрывая от себя последнее. Я, бедный, несчастный человек, не мог больше танцевать, в кадетские годы не изучил никакой полезной профессии. Только временами я скудно зарабатывал мелкими газетными статьями. К фильму без денег и связей никак не удалось мне добраться.
Утомительные поиски квартиры вскоре стали для нас почти невыносимыми. У многих, очень многих дверей мы стояли, как нищие. Люди видели или чувствовали, что связывало меня и Гиссо. Наконец, старая и добрая женщина приютила нас, но мы вынуждены были ограничить наши претензии до последней крайности. Казалось, что наша жалкая, горькая жизнь наладится, но тут заболел Гиссо. Наступила тяжелая, полная страха и страданий пора, но и она должна была быть пережита. Я благодарил судьбу, что Гиссо все-таки выздоровел. Однако, теперь мы были совершенно задавлены нуждой и должны были опять начать строить тяжкую, горемычную жизнь. К несчастью мы пали духом: у нас уже не было той бодрости, которая до сих пор приходила нам на помощь. Тяжелая нужда и горькая судьба сделали нас дряхлыми, беспомощными. Унижения, мольбы, отверженность ослабили нас, исчезла наша приспособляемость.
“К чему это?” спросил меня Гиссо однажды вечером. “Виновны ли мы, что любим друг друга?” Мы спрашивали себя, зачем мы, собственно, страдаем, боремся с нуждой и заботами. Ведь так называемое “нормальное” общество, из которого мы сами произошли, живет не лучше нас, только совершает то же, что и мы, украдкой, втайне. Наше существование вдруг предстало перед нами во всей своей незавидности и бессмысленности. Казалось, будто вся наша жизнь только и должна заключаться в том, чтобы блюсти свое “доброе имя”, между тем как само существование будет протекать между тернием и чертополохом.
Однажды мы встретили на улице бывшего коллегу Гиссо. Он дал ему рекомендацию к владельцу книжного магазина, искавшего “частного секретаря”. На следующее утро мой Гиссо представился, был любезно принят и должен был явиться спустя 3 дня опять. Надежда блеснула для нас!
Гиссо пошел с радостным сердцем, но когда он вернулся, то был сер, как земля. С трудом я заставил его говорить. Владелец магазина принял его весьма холодно и сказал: “К сожалению, сведения, полученные мною о вас, неблагоприятны. Я хочу вас прямо спросить, – правда ли, что вы находитесь в гомосексуальных отношениях с бывшим танцовщиком и даже живете с ним под одной крышей?” Тогда мой друг встал и безмолвно вышел на улицу.
Наступили тяжелые дни.
Перед Рождеством мы продавали на перекрестках улиц елки, а после праздников – газеты. Ах, как нам было тяжело! Однажды, сияя от счастья, мимо нас прошел мой брат под руку со своей молодой женой. Он нас не заметил. Я еще издали увидел его, как он бодро и жизнерадостно шагал в своей шубе. Его жена бросила нищему монету. Мы были почти рядом с ними.
Чувство невыразимого негодования охватило нас. В наших глазах горел вопрос бездомных: “Кто мы такие?” Теперь мы поняли, что после этого момента мы не сумеем дальше мириться с нашей участью. Мы ощущали всю глубину нашего несчастья, столь же незаслуженного нами, как и остальные унижения, стыд и неприязнь к нам. Безмолвные, униженные мы поплелись домой. Наша хозяйка была очень дружелюбная и полная участия женщина. Она отапливала нашу комнату и отпускала нам горячий чай.
Когда мы согрелись и отдохнули, хозяйка медленно вошла в нашу комнату. Обитатели дома рассказали ей столь гадкую историю о нашей жизни, что она ни за что не хочет этому поверить, но, хотя она только бедная женщина, ей все же дорога ее репутация, поэтому она спрашивает нас откровенно, имеется ли доля правды в том, что мы, якобы, “теплые братья”? Она очень извиняется, но…
На сей раз ответил Гиссо. Он попросил ее не беспокоиться, так как слова соседей только клевета, но во всяком случае мы первого февраля очистим комнату, так как уезжаем из Берлина. Женщина успокоилась, поблагодарила и вышла. По простоте своей она, конечно, не подозревала, что причинила нам глубокую боль. В эту ночь я и Гиссо сидели рядом, но никто из нас не смел проронить слова. Мы хорошо чувствовали, что что-то в нас оборвалось, что наша жизненная песня спета. Впереди все было безнадежно, мы себя чувствовали недостойными жить. Наши силы были уже надломлены, мы были смертельно ранены.
Теперь вы, высокоуважаемый господин медицинский советник, наверное спросите (ах, я вас вижу перед собой своими светлыми юношескими глазами): “Почему же вы не пришли ко мне? Ведь я уже 30 лет борюсь за облегчение участи гомсексуалистов”.
Мне часто хотелось отправиться к вам, но вы также не могли бы нам помочь, ибо и этот легчайший путь тоже был бы связан с попрошайничеством, с просьбами о помощи. Именно перед вами, заслуженным поборником разрешения столь важной и неотлагательной проблемы, я бы не хотел показаться в столь жалком, подавленном состоянии.
Поздно! Я больше не способен просить, умолять, клянчить. И мой друг, энергичный и мужественный раньше, лежит теперь разбитый, полумертвый. Мы хорошо знаем, что вы пытались бы помочь нам, но в глазах человека, которого мы так высоко уважаем, которым просто восхищаемся, мы не хотим показаться жалкими, менее значительными, чем мы на самом деле. Просящие люди всегда жалки. Горьким опытом мы познали, что нам больше помочь нечем. Мы все равно исключены из круга наших семей и друзей. Мы стали отверженными, проклятыми.
Таким образом наступила та ночь, когда наше решение умереть приняло реальные формы. Мы чувствуем, что сочеловеки еще недостаточно зрелы для того, чтобы и нам, иначе созданным, чем они, предоставить возможность жить в сносных условиях. Мы так и не могли мириться с мыслью, что находимся под угрозой уголовного преследования, тем паче поразило нас известие о новом потрясающем законопроекте, против которого столь предостерегающе выступила “Die Weltbürne”. Вот почему мы добровольно отказались от жизненной борьбы и этой ночью покончим с бессмысленной жизнью. Так как я и Гиссо соединены нерасторжимыми узами, мы должны и умереть вместе.
Уже глубокая ночь. Я еще должен написать матери прощальное письмо. Высокоуважаемый господин медицинский советник, пожалуйста, утешьте мою мать! Передайте ей, что мы сами освободили себя. Пусть похоронят меня и Гиссо в одной могиле. Когда урнинги <геи> любят, их любовь крепче и глубже, чем любовь наших “нормальных” братьев, презирающих и преследующих нас.
Примите благодарность за все, что вы сделали для нас, отверженных, в течение нашей плодотворной жизни. Мы завещаем дневник, наши любовные стихи, посвященные друг другу, и наши фотографии вашему архиву. Расскажите о нашей жизни тем незрелым людям, которые борются против наших справедливых домоганий. Пусть Бог благословит великое дело, за которое вы ратуете столь неустрашимо и неутомимо, за которое мы, как и бесчисленная армия наших предшественников, жертвуем нашей жизнью. Быть может вам все же удастся добиться справедливой цели. Это наше предсмертное желание! Прощайте!
Благодарные,
Ганс Гейнц фон В. и его друг.
***
Дорогие читатели, если вы окажетесь в ситуации, подобной описанной в этом письме, пожалуйста, не пренебрегайте помощью активистов и правозащитников.
Текст: Лев Соколинский