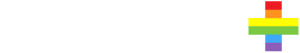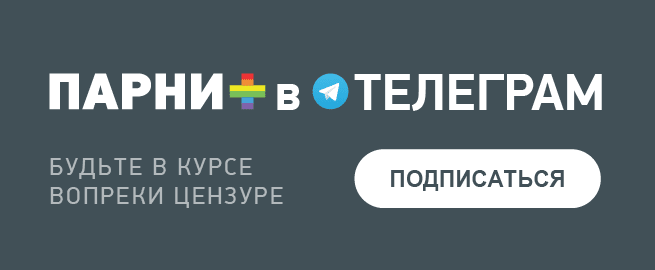“Homo Cumming” (человек кончающий)
В “Исповеди” Руссо есть удивительное описание мужского оргазма, причём глазами гетеро-подростка. Это фантастическое для своей эпохи откровенное описание кончающего мужчины, кажется, не имеет прецедента в мировой литературе. Но перед этим – небольшое отступление.
Все классические авторы до этого изображали кульминацию мужского возбуждения через умолчание (с помощью “минус-приёма”), когда оргазм изъят из описания, но подразумевается. Авторов заботила любовная часть близости, а не её “технология”. Но в век Просвещения сексуальность человека в полном объёме попала в поле зрения литературы. И возник этический вопрос: почему “орудия” любви и её “инструменты” оказались в сфере “низких истин”?
К примеру, “Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена” (1767) Стерна начинается со сцены супружеского секса (во время этого оргазма и зачат сам автор): “Послушайте, дорогой, – произнесла моя мать, – вы не забыли завести часы? – Господи боже! – воскликнул отец в сердцах, стараясь в то же время приглушить свой голос, – бывало ли когда-нибудь с сотворения мира, чтобы женщина прерывала мужчину таким дурацким вопросом?”
Позднее Пушкин, ссылаясь на Стерна, напишет о том, что мужской оргазм – тоже может быть предметом литературы. Почему бы нет?
“Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончается содроганием почти болезненным. Несносный наблюдатель! знал бы про себя; многие того бы не заметили”, – иронизировал поэт.
Пушкин хулиганил: это замечание, оставшееся в рукописи, не могло войти в альманах “Северные цветы” (1828) и не попало в печать. Но сам заочный диалог со Стерном поддерживает тему табуированности секса в литературе. Страсть может быть предметом изображения, а вот “миг последних содроганий” – почему-то нет. Впрочем, в 1830 году Пушкин восполняет этот пробел в стихотворении “Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем”, где звучит скрытая ссылка на Стерна.
Задолго до этого, Стерн пытается понять, почему “физиология” любви – позорней и запретней для культуры, чем “физиология” войны: “акт убийства и истребления человека всеми прославляется”, “и оружие, коим мы его совершаем, окружено почётом”.
Но “почему, намереваясь произвести человека и дать ему жизнь, мы задуваем свечу? [погружаем кульминацию в темноту]. Чем, наконец, объяснить, что всё к ней причастное, входящее в неё – приготовления к ней, её орудия невозможно передать (…) ни на каком языке, ни прямо, ни иносказательно?”
Табу на описание мужской физиологии (“орудий” страсти) начинает рушиться в эпоху Просвещения, когда “несносный наблюдатель” решает охватить природу человека в полном объёме. Включая его сексуальность.
Этот (как бы отстранённый и научный) подход к человеку подарил нам образцы удивительной искренности в прозе Руссо.
“Обнимали друг друга, лёжа в одной постели”
В “Исповеди”, кажется, не осталось, ни одной запретной темы. Мужской физиологии посвящены несколько ярких страниц. (А так же – однополому влечению, харассменту, садо-мазо комплексам, мастурбации, эксгибиционизму, оргазму и множеству тем, невозможных раньше в публичной печати).
В погоне за самоанализом, Руссо раз и навсегда двинул мировую литературу по пути максимальной искренности. Молодой Толстой, увлечённый смелой аналитикой Руссо, пытался повторить её в “Трилогии”, но в рамках христианского “морализма” русской культуры, разумеется, не мог писать о сексе, возбуждении и прочем.. Толстовская “диалектика души” не интересовалась чувственным миром, как таковым, считая его “низменным” предметом.
Но вернёмся к Руссо.
В описаниях интимных событий он расставляет “верные” моральные акценты. Его инстинкты “натурала” не оставляют сомнений. Но не оценки здесь важны, а новаторский взгляд на мир.. Например, его шокируют “домогательства” гея-африканца, он с подчёркнутым “ужасом” описывает сцену его мастурбации – и даже вид спермы, от которой ему “становится дурно”. Но в то же время, это вызывает интерес, с которым Жан-Жак наблюдает незнакомый ему сексуальный опыт.
Он обладает зорким взглядом искушённого в “нетрадиционной” чувственности человека, которому не занимать собственного “порочного” опыта.
Моральные оценки для Руссо не так важны (они предсказуемы). Гораздо интереснее мысли о сексе (жадное внимание к деталям) и выводы, к которым он приходит.
Садо-мазо комплекс, возникший в юном возрасте, навсегда “привязал” его к властной, доминирующей женщине, причиняющей физическую боль (что было условием возбуждения). “Страдательное” переживание секса, когда ты возбуждён в пассивной роли, как жертва “истязаний”, наложила отпечаток на восприятие секса вообще.
Принцип удовольствия, типичный для гея, был Руссо совершенно чужд. Даже в постели с кузеном он не реагирует на физическую близость. Вот как он пишет о первом осознании своей сексуальности:
“Мой кузен, оказавшийся почти в сходном положении, поскольку за нечаянный проступок его наказали [высекли], возмущался и негодовал вместе со мной. Задыхаясь от слез, мы судорожно обнимали друг друга, лежа в одной постели, а когда наши юные сердца получили некоторое облегчение и мы смогли исторгнуть свой гнев, мы принялись кричать что есть мочи: «Палач!»
“Кто поверил бы, что розги, полученные в возрасте восьми лет от тридцатилетней девушки, оказали решающее воздействие на мои склонности, желания, страсти до конца жизни, и притом в направлении, противоположном тому, что должно было стать его естественным следствием? Вспыхнувшая чувственность так изменила мои стремления, что я не искал уже ничего иного, кроме того, что однажды испытал..”.
Частично этим можно объяснить и отвращение к гей-сексу: принцип удовольствия, оргазм в качестве разрядки и игры, “приключения с другом” – не задевали комплексов “любви пополам с физической болью”.
Ни один мужчина, предлагавший Руссо интимную близость, не подходил на роль “тридцатилетней девушки”.
Несмотря на “порочную привычку” к мастурбации, юный Руссо панически реагировал на предложения мужского интима:
“Однажды вечером я сидел в Белькуре, после довольно скудного ужина, и раздумывал о том, как мне выпутаться из нужды. Ко мне подсел какой-то человек, который выглядел как рабочий шелкоткацкой фабрики, которых много в Лионе. Он заговорил со мной, я ответил, завязался разговор. Мы не проболтали и четверти часа, когда он, все так же спокойно и не меняя тона, предложил мне развлечься вместе с ним. Я ждал, что он объяснит мне, какое развлечение имеется в виду, но он, не добавив ни слова, счел своим долгом попросту подать мне наглядный пример.
Мы сидели совсем близко друг к другу, и еще не достаточно стемнело, чтобы я не увидел, к какому упражнению он готовился. Он ничего от меня не требовал; по крайней мере, ничто не указывало на его намерения в отношении меня, да и место к тому не располагало. Он именно хотел, чтобы каждый из нас развлекся сам по себе, и это казалось ему таким простым делом, что он даже не предполагал, что я могу думать иначе. Я же был так напуган его бесстыдством, что стремительно вскочил и, не ответив, бросился бежать, думая, что негодяй погонится за мной. Я остановился лишь на другой стороне деревянного моста. Я был подвержен тому же пороку, но это воспоминание надолго излечило меня от него”.
“Он порывался улечься со мной в постель”
Ещё более детально описан случай в монастыре, где юный Руссо проходил обряд конфирмации, принимая католичество. Среди кандидатов был темнокожий африканец (или мавр), который проявил к нему активный интерес.
Пожалуй, это первое в мировой литературе описание оргазма.
“Однажды вечером он порывался улечься спать в мою постель вместе со мной. Я воспротивился, сказав, что кровать слишком узка для двоих. Тогда он стал упрашивать меня лечь спать в его постель. Я снова отказался, ибо этот несчастный так сильно вонял табаком, что меня начинало тошнить.
На следующий день, довольно рано утром, мы оказались наедине в зале собраний. Он возобновил свои ласки, причем с такой горячностью, что ужасно напугал меня. Наконец он перешел к самым возмутительным вольностям, и пытался заставить меня, завладев моей рукой, делать то же самое с ним.
Я вскрикнул, вырвался и отскочил от него. Не выказывая ни негодования, ни гнева, ибо не имел ни малейшего представления о том, что происходило, я выразил при этом свое удивление и отвращение так энергично, что он отстал. Однако в последние мгновения его беснований я видел, как что-то белое и клейкое, от вида чего мне стало нехорошо, полетело к камину и шлепнулось на пол. Потрясенный и напуганный более, чем когда-либо в жизни, я бросился на балкон, готовый упасть в обморок”.
Руссо несомненно лукавит: невозможно кончить моментально. До того, как “африканец” попытался “завладеть его рукой” и обратил в паническое бегство, он должен был, как минимум, минуту мастурбировать на глазах у автора. В то время как Руссо, очевидно, наблюдал за “беснованиями”.
Любопытство наблюдателя? Почему бы нет? В конце-концов, он занимался тем же самым, демонстрируя служанкам обнажённый пенис. Но мужчине он такого не прощает.
“Если все мы так выглядим в минуты страсти…”
“На самом деле я не представляю ничего более уродливого для стороннего наблюдателя, чем эти непристойные и грязные движения и ужасное выражение лица, горящего самой грубой похотью. Никогда мне не доводилось видеть другого мужчину в подобном состоянии, но если все мы именно так и выглядим в минуты страсти, то женщины, должно быть, смотрят на нас слишком влюбленными глазами, раз не приходят в ужас”.
“Этот случай обезопасил меня в дальнейшем от посягательств мужеложцев, а поскольку люди, которые слыли таковыми, напоминали мне своим видом и повадками ужасного мавра, то и внушали мне нескрываемый ужас”.
Руссо спешит пожаловаться монастырскому начальству, но не встречает понимания. Его убеждают, что ничего страшного не случилось. Один из священников “без колебаний заявил, что это запретное дело, как и разврат, но что не стоило раздражаться так сильно лишь оттого, что меня нашли привлекательным”. (Похоже, у харассмента давняя история).
***
Сегодня мы должны сказать спасибо чернокожему гею, чья сперма, пущенная в сторону камина, так напугала Руссо.
“Непристойные и грязные движения” навели его на мысль об “эстетичности” мужской физиологии, о сложном сочетании Природы и Культуры в самом сексуальном акте.
“Искажённое” лицо кончающего парня вызывает у Руссо недоумение философского порядка, почти когнитивный диссонанс, потому что идеальная любовь в образе уродливой гримасы – рушила культурный стереотип.
Не будучи геем, Руссо не мог видеть этого раньше: “Никогда мне не доводилось видеть другого мужчину в подобном состоянии”. Но именно возможность видеть вещи “странными” помогает сформулировать проблему.
Догадливый Руссо понимает, что дело не “похоти” геев. И применяет этот парадокс к самому себе. (“Если все мы именно так и выглядим в минуты страсти, то женщины, должно быть, смотрят на нас слишком влюбленными глазами, раз не приходят в ужас”).
Но откуда “ужас”? Что ужасного в лице кончающего парня? И даже в его сперме? (Ведь речь идёт не о насилии, а об образе оргазма вообще).
“Искажённая” оргазмом натура человека (как и его “однополые” страсти) не вписывались в общую концепцию Просветителей.
Но Руссо эстетизирует “дикарский” элемент в природе человека. Секс для него – выражение “дикарской” (природной) натуры. Видимо, здесь заключаются корни теории “благородного дикаря”, в которой автор сочетает культуру и “дикарство” – в поиске баланса. Этот “дикий”, страстный элемент и “искажает” мужские лица в момент оргазма.
“Тёмная, сверкающая волна”
Пройдёт несколько столетий, прежде чем сексуальность будет полностью реабилитирована Культурой. И уже Мисима в “Исповеди маски” (1949) изобразит поэтическую сторону мужского оргазма – как особого интимного жеста, обращённого к миру. Сперма красиво лежит на предметах, поблёскивая в солнечных лучах, сливаясь с солнечной природой…
Никакого “искажения”. Любовь к святому Себастьяну и первая разрядка не “уродуют” лицо, а скорее, выражают авторское “я”. Сам оргазм и “капли спермы” для Мисимы – солнечны и прекрасны…
“Когда я впервые увидел святого Себастьяна, меня охватило просто какое-то языческое ликование. Кровь закипела в жилах и мой орган распрямился, будто охваченный гневом. Казалось, он вот-вот лопнет от чрезмерной напряжённости… И моя рука неловко, неумело задвигалась. Тут из самых глубин моего тела стремительно поднялась некая темная, сверкающая волна. И не успел я прислушаться к новому ощущению, как волна эта разлетелась брызгами, ослепив и опьянив меня.
Немного придя в себя, я с испугом огляделся по сторонам. За окном шелестел клен, пятна света и тени от его листвы покрывали весь письменный стол: учебники, словари, альбомы, тетради, чернильницы. И повсюду – на золотом тиснении книжного корешка, на обложке словаря, на стенке чернильницы – лежали белые мутные капли. Одни лениво и тяжело стекали книзу, другие тускло поблескивали, как глаза мертвых рыб. К счастью, альбом я успел прикрыть ладонью… Это был мой первый оргазм, а заодно и первый опыт, неуклюжий и случайный, моей “дурной привычки”.
***
Если вспомнить фразу Стерна, то Мисима “зажигает свет” в том самом месте, где мировая литература привыкла его “выключать”. И никакого “уродства” в оргазме и сексе не обнаруживает.
Несомненно, коллективный опыт геев, восторженное отношение к мужскому телу, члену и физиологии – всё это постепенно нормализует отношение Культуры к сексуальности в целом (наготе, оргазму, сексу, даже выражению лица).
Вклад геев в нормализацию секса – огромен.
Со временем стало понятно, что любой оргазм прекрасен, как “пограничный” опыт “расширения сознания”. В этой “маленькой смерти” умещается очень большая жизнь.
Для Ричи в сериале “Это грех” лица кончающих парней – это символ радости жизни, освобождения гей-природы, её принятия традиционной культурой. Любовь, как и оргазм, стало “не стыдно” показывать. Потому что “стыдными” стали гомофобия и ханжество.
Перед смертью Ричи говорит: “Знаешь, я ведь помню каждого из них по отдельности. Его волосы, губы, как он смеялся над шутками, его спальню, лестницу, фотографии. Его лицо, когда он кончает. А потом увижу его в клубе, шесть лет спустя – и подумаю: Да, это же он… А он уже с другим и счастлив. А я подумаю: вот и отлично. Потому что все они – супер…”
В короткометражке «Маленькая смерть» (“La Petite Mort”, 1995) Франсуа Озон видит в “оргастичности” (которая стала фетишем гей-культуры) более глубокую проблему, чем социализация однополого секса.
Его интересует оргазм, как пограничный духовный опыт между жизнью и смертью, между приходом в жизнь – и уходом из неё.
В фильме юный фотограф Пол увлечён своим проектом, фотографируя лица друзей в момент оргазма. Он гей и живет с парнем по имени Мартиль.
Пол и сам участвует в съёмке, а партнёр ловит момент его оргазма на камеру. “Оргастичность” вызывает у героя философский интерес. Лица кончающих парней, которые он вешает на стены, полны не только чувственности, но и “отлёта” от культуры, от цивилизации – в область собственной “тёмной” природы.
Это путешествие в сторону смерти, и к началу жизни – одновременно. Возможно, даже репетиция агонии, ухода. В момент оргазма мы и правда, теряем связь с реальностью, выпадая из пространства и времени.
Почему “Христос никогда не смеялся”
В одной из статей прекрасный филолог С.С.Аверинцев тонко подметил, что “Христос никогда не смеялся”. Улыбался – да, но не смеялся и не хохотал. Автор объясняет это тем, что смех имеет “оргастическую природу” и сопровождается “потерей духовной концентрации”.
Смех, как и оргазм – это тоже “маленькая смерть” в виде “отлёта от реальности”, чего Христос не мог себе позволить. Хохот Христа означал бы отказ от личности, пускай и на доли секунды.
Это очень глубокая мысль. Хотя православный автор не говорил об оргазме прямо.. Соглашаясь с этим наблюдением, можно сказать, что Христос не только “не смеялся”, но и “не кончал”. Нам ничего об этом не известно. Даже в годы подростковой гиперсексуальности. (О Христе-подростке, в период его гормональных бурь и проявления сексуальной ориентации, мы ничего не знаем).
Но если следовать канону, то природа этой личности исключала потерю концентрации, а смех (оргазм) означали бы измену духовной миссии. Но если это так, то что известно деятелю “Нового завета” о чувственной жизни людей на основе собственного (более чем скромного) опыта?
Впрочем, это органично для а-сексуальной религии в целом, которая видит в сексе лишь инструмент воспроизводства. (Не случайно изображение обнажённого Христа – большая редкость). Центральная идея христианства (“непорочное зачатие”) не оставляет места для мужчины с его “атрибутами”. За попытку распорядиться членом по собственному усмотрению (история Онана или геев-“мужеложников”) быстро следует “смертный приговор”.
Гей-отношения, в которых сексуальность является “базовой ценностью”, всегда останутся чужими для христианской доктрины. Впрочем, это верно для всех авраамических религий, в которых принцип удовольствия остаётся врагом номер один.
К тому же, мистический опыт оргазма в каком-то смысле конкурирует с молитвенным экстазом. (Не случайно лики Себастьяна в разных версиях его изображения, содержат аллюзии на сексуальное возбуждение). Так или иначе, церковь не готова поощрять мистическую практику “отлёта от реальности”, обещая кары за чувственный опыт, который до сих пор опасен для религии.
“Homo Cumming” (человек кончающий)
В современных инсталляциях “кончающим мужчиной” никого не удивить.
Например, я помню одну из композиций с натуралистичной фигурой лежащего парня в джинсах, с членом в руках, из которого ритмично фонтанирует “сперма”. Он уже залил себя наполовину, но продолжает “изливаться” на радость публике. (“Остановись, мгновенье, ты прекрасно”).
Оргазм, как хеппенинг и арт-объект, “провокация” и инсталляция, “эротический конструкт” и “эстетический жест”…, – мужской оргазм стал просто частью культурного дискурса.
Можно сказать, что мужская сексуальность (со всей её физиологией), которая так пугала “эстета” Руссо, напрягала Стерна и изгонялась из литературы, оказалась абсолютно нормализованной к концу ХХ века.
Мы спокойно наблюдаем на экране за кончающим героем Луи Гарреля, – и его сперма в фильме Бертолуччи вряд ли пугает зрителя. (То, что появляется в литературе, рано или поздно должно пробиться на экран).
Стерн может праздновать победу: культура (наконец-то) готова отдать предпочтение “инструментам” любви, а не войны и истребления.
“Лилии они или члены”
Написанный в 1942 году в одной из парижских тюрем, роман “Богоматерь цветов” Жана Жене так же пропитан сексуальным желанием, как и желанием свободы. Жажда секса в тюремных стенах неуловимо сливается с жаждой освобождения (страны и узника). Оргазм героя здесь – это “выход за пределы”, способ выживания, метафора полной свободы.
И чем крепче стены камер, тем сильнее потребность в воображении. Оно питается журнальными картинками, долетающими с воли, и памятью возбуждённого героя…
“Самые красивые цветы – это парни-коты. Непреклонные, строгие, с расцветшими членами, так что я уже перестаю понимать, лилии они или члены… Это воспоминание о тебе, лежащем неподвижно, пока я ласкал тебя; и только твой обнажённый и подрагивающий член врывался в мой рот с неожиданным остервенением бродяги. (…) Я не сомневался в нашей целомудренности, когда чувствовал, как ты несколькими толчками изливаешься в меня белой теплотой”.
Воображаемый оргазм был не только сексуальным, геевским, но и политическим жестом. Пожалуй, самые смелые тексты на тему сексуального “выхода за пределы” рождались в обстоятельствах политической несвободы. ХХ век давал для этого массу поводов.
“Я причащался его х.. “
Оральный секс в исполнении “Эдички”, хотя и случился в Нью-Йорке 70-х годов, но был антисоветским по смыслу. Это был протест против нормативности советской системы, для которой гей-секс был атрибутом свободного мира.
Человек, который сам определяет границы “морали”, был врагом режима, даже если он “сосал” классово близкому чёрному парню.
“Эти действия символизировали гораздо больше – жизнь, победу жизни. Я причащался его хую, крепкий хуй парня с 8-й авеню и 42-й улицы, я почти не сомневаюсь, что преступника, был для меня орудие жизни, сама жизнь. И когда я добился его оргазма, когда этот фонтан вышвырнулся ко мне в рот, я был совершенно счастлив. Вы знаете вкус спермы? Это вкус живого. Я не знаю ничего более живого на вкус, чем сперма”.
Освобождение через секс и экзистенциальное значение интима роднит Лимонова с Мисимой и Жаном Жене: оргазм для них – метафора полёта, квинтэссенция жизни и свободы.
“Миг последних содроганий”
Возвращаясь к России, заметим, что к чести любимого Пушкина (с которым мы сверяем этические нормы до сих пор), он не был гомофобом и ханжой.
Верность идеалам Просвещения помогали ему видеть человека целиком, за рамками узкой “морали”. Пушкин мог порассуждать о “живейшем из наших наслаждений”. Поэтическое изображение секса – тоже у всех на памяти:
“Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!…”
Внимательный читатель, конечно, заметит, что это не просто картина интима, но и (возможно) первый в русской поэзии образ орального секса, поскольку (согласитесь) торопить последний миг “язвою лобзаний”, удобнее всего, “лобзая” член. (Репутация “вакханки” это позволяет).
В истории с дуэлью Пушкин не опустился до гомофобных оскорблений Геккерену, всего лишь назвав Дантеса “так называемым сыном” – не более того. А в юности поэту ничего не стоило дать совет другу по “Арзамасу” – кого из кишинёвских “красавцев” тот мог бы склонить к интиму:
24-летний Пушкин писал в 1823 году 37-летнему Вигелю: “Желаю вас рассеять хоть на минуту и сообщаю сведения, которых вы требовали от меня; из трех знакомцев, думаю, годен на употребление в пользу собственно самый меньшой: NB он спит в одной комнате с братом Михаилом и трясутся [мастурбируют] немилосердно, – из этого можете вывести важные заключения, представляю их вашей опытности и благоразумию”.
Вряд ли Пушкин нашёл бы общий язык с Достоевским. А вот с Руссо или геем Мисимой, думаю, нашёл бы. Потому что, замечая тёмный эрос “дикаря”, они верили в светлую природу человека.
.
Александр Хоц – для Parniplus.com