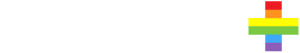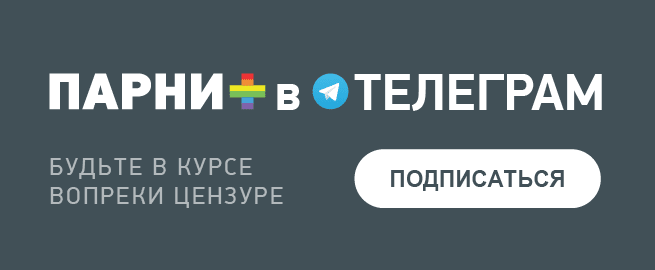Рассказ-антиутопия. В недалеком будущем человечество становится жертвой загадочного, смертельного Вируса. Он не оставляет шанса никому, кроме маленьких детей и… мужчин, живущих с ВИЧ. Именно им предстоит унаследовать новую Землю. Пройдя через огонь Эпидемии, герои осознают и принимают свою глубокую человечность.
ВИРУС
Для меня Эпидемия началась в пятницу, 15 августа 2014 года.
Я сидел в кафе и праздно рассматривал светлоглазого парня через два столика от меня. Чудесное, сильное лицо; великолепно очерченный, мужественный рот; легкая щетина, оттенявшая лепку скул. Легкое, гибкое тело; если его раздеть, то можно, медля, любоваться игрой мышц под чуть тронутой загаром кожей, прежде чем начать гонку наслаждения.
В те дни я размышлял над тем, как же мне сказать Маркусу, что я хочу открыть наши отношения. Я не хотел втихую изменять ему, скрывать и дальше свои приключения, плести паутину лжи – мне было важно растолковать ему, что я по прежнему люблю его, хочу прожить всю жизнь только с ним, что он – единственный, бесконечно дорогой, неотъемлемая часть меня самого, лучшее, что могло случиться в моей жизни.
Мне нужно было всего лишь разнообразие. Прост секс, без имен и лиц, и, если только можно, вообще без слов, только самых необходимых.
Тогда мы были вместе уже восемь лет. Восемь лет любви и дружбы, восемь лет в одной постели, восемь лет счастья. Мы – ровесники, но я мужал быстрее, чем словно решивший навечно остаться двадцатилетним Маркус. Я казался его страшим другом, и новые знакомые неизменно удивлялись, узнавая, что лет нам поровну. В самом начале нашей жизни вдвоем я сходил с ума от желания, стоило мне только представить, всего лишь представить, светлую, почти прозрачную кожу Маркуса, усыпанную веснушками, и его всегда немного испуганные огромные глаза того неповторимого оттенка серого, какой природа приберегла только для рыжих. Вереница лет – и похоть сменилась глубокой, спокойной нежностью. Мы встретились, когда нам было чуть за двадцать; мы вместе взрослели, набираясь нелегкого опыта непохожих на большинство окружающих людей. Были чудесные дни, и скучнейшие недели; были тяжелые потери – мы оба потеряли отцов, в один год, – когда мы сумели поддержать друг друга и плечом к плечу пройти через горе. Мы работали, путешествовали, дурачились, украдкой посматривали на симпатичных парней, задавались вопросами о смысле жизни, затевали эксперименты в спальне, иногда вместо ожидаемой кульминации приводившие к дикому смеху, прятали подарки под елку на Рождество. Словом, это была семейная жизнь, и ее я не променял бы ни на что другое.
Всего лишь немного новизны. Вот все, что мне было нужно.
Я тихонько рассмеялся. К парню в кафе подсела девушка, прелестная, на мой взгляд, и они, обменявшись легким поцелуем, завели разговор, изящно склонившись друг к другу. Она протянула руку и дотронулась до лба своего друга, словно проверяя температуру, вздрогнула, это было заметно даже на расстоянии, отдернув пальцы как от огня. Парень потер виски, огляделся по сторонам, со странным всхлипом вздохнул и неожиданно сполз со стула на пол, опрокинув чашку. Его тело словно свела судорога. Хрип. И душераздирающий девичий вопль.
Мне казалось, я оказался в фильме. Люди вокруг меня пришли в движение. Кто-то кричал что-то о «скорой помощи», кто-то с невозмутимым видом врача склонился над задыхающимся парнем. Официантка застыла с подносом в руках, бледная, как полотно. Кафе было полно чудесного августовского света, и это несчастье казалось нереальным, поставленным талантливым режиссером, решившим оттенить человеческое страдание золотистыми солнечными лучами.
Я ничем не мог помочь. Оставалось только расплатиться и выйти, оставив за спиной плачущую девушку. У самых дверей до моей руки дотронулась официантка.
– Третий сегодня, – прошептала она. – Один – в торговом центре, и женщина на остановке за углом. Точно также – упали и не могли дышать. Это ведь просто совпадение, так?
Она умоляюще смотрела мне в глаза.
К тому времени я не раз ловил себя на мысли, что начинаю уходить все дальше и дальше от обычных, «нормальных» людей. Отчуждение. В юности и ранней молодости я хотел быть таким же, как все. Это естественное желание приемлемости было порой так сильно, что толкало моих друзей на удушающие браки – или выводило на путь гораздо более легкого саморазрушения, у наркотикам или опасному сексу. С годами я понял, что не захотел бы становиться в ряды стандартных граждан, даже будь это возможно. Я принял себя таким, каким был, но заплатил за это, утратив интерес и сострадание к людям вокруг меня. Мне не стало до них ровным счетом никакого дела. О да, другие, полные благих намерений, геи затевали проекты планетарного масштаба, вроде озеленения пустынь или борьбы с неграмотностью в районе Амазонки. Я считал их глупцами. Ими двигало детское желание быть хорошими, им страстно хотелось, чтобы и их погладили по голове и сказали, что они, в самом деле, славные мальчики, хотя и занимаются скверными вещами за закрытыми дверями клубов и спален. По этому поводу я не раз спорил с моим приятелем-активистом, пока мне не наскучили его аргументы. В мире подлинного равноправия, говорил я ему, пока меня еще забавляли эти разговоры ни о чем, никому и в голову не пришло хоть как-то, хоть в чем-то отделять нас от остальных людей и хвалить, словно умненьких цирковых зверушек, за удачно выполненный трюк.
Поэтому я просто кивнул официантке и не торопясь пошел домой, наслаждаясь легким ветерком. В воздухе уже чувствовалась скорая осень. Я всегда любил август, спокойный, прозрачный месяц, полный для меня легкой грусти. Моя мать умерла в августе, когда мне было девять лет. Помню, я очень долго не хотел поверить, что никогда больше не увижу ее. И даже став взрослым, я все еще не мог толком осознать, что вся моя жизнь проходила без ее ведома. Мать Маркуса вышла замуж во второй раз и укатила куда-то в Новую Зеландию, оставив неправильного сына в прежней, все более призрачной жизни.
Я очень хорошо запомнил ту пятницу, да и вообще те выходные – последние перед переменой наших судеб.
И все же у нас обоих было некое предчувствие – не беды, а скорее важных, полных драматизма событий.
После ужина мы сидели в обнимку перед телевизором, рассеянно наблюдая за чередой картинок – новостями. Маркус положил голову мне на плечо, уютно поджал ноги и переплел тонкие пальцы левой руки с моими, тихонько мурлыча песенку. Меня вдруг охватила тревога, как будто я без всякого предупреждения осознал хрупкость не только нашего союза, а наших с ним жизней, да и вообще всего рода человеческого. Содрогнувшись, я поцеловал его руку и задержал ее у губ. От кожи чуть слышно пахло лавандой – мылом. Это был мой самый дорогой, самый близкий человек. На миг в груди вскипело рыдание, и тут же угасло.
– Похоже, сезон носовых платков в этом году начинается уже летом, – бодро проговорила ведущая на экране. – Наши корреспонденты сообщают о рекордном числе обращений к врачам с жалобами на симптомы гриппа.
Маркус перестал петь и чуть приподнял голову. Для нас грипп, да и любые серьезные заразные болячки, были весьма некстати. Мы оба много лет жили с ВИЧ, и познакомились, вообще-то, в маленьком местном центре поддержки ВИЧ-положительных геев, когда только заполучили вирус от кого-то из любезно пожелавших остаться неизвестными партнеров нашей бурной юности. Несмотря на терапию, мы все-таки были уязвимее других людей. Чихающие и кашляющие попутчики в трамвае были нам вовсе не нужны. Году на третьем нашей семейной жизни я угодил в больницу с тяжелым воспалением легких, и мы прошли через наш собственный маленький ад, в котором Маркуса не сразу согласились пустить ко мне в палату интенсивной терапии, потому что он не был близким родственником. Даже мысль о повторении кошмара была ужасна.
Мы провели выходные, безмятежно катаясь на велосипедах и прогуливаясь по дорожкам в чудесном городском парке. Среди все еще сочной листвы, незатейливого аромата цветов, жужжания пчел беспокойство рассеялось. Ну что ж, пересядем с удобного трамвая на машины, помучаемся с парковкой в центре города, а в офисах будем держаться подальше от коллег с подозрительно красными глазами. Столько всего пережили, и это переживем.
Как это всегда бывало с нами, мысль об опасности разогрела чувственность. Вечер субботы и утро воскресенья мы провели в объятиях друг друга, не торопясь повторяя привычный путь к финалу. И мы много дурачились, только что подушками не подрались – а бывало и такое, в первые годы нашей близости. Тогда дикой энергии было так много, что ее не укрощал даже долгий секс.
Мы не знали, что за эти два дня Эпидемия уподобилась шквальному огню, выжигавшему все на своем пути. Уже к полудню субботы вызовов «скорой» и обращений в больницы стало так запредельно много, что мэр нашего города попросил местные службы новостей не давать в эфир сюжеты о «гриппе», чтобы избежать паники. То же, очевидно, приходило в голову властям по всей нашей маленькой стране, поэтому полной картины бедствия у жителей в первые дни не было. Люди заболевали тихо.
Первая волна тревоги прокатилась по социальным сетям, но угасла. Виртуальная дружба не выдержала испытания настоящей бедой. Заболев, человек просто не выходил в Сеть и исчезал с экранов друзей. Если он был одинок, никто из них не подавал ему или ей воды и не держал за руку, помогая бесстрашно перейти в другой мир. Сотни призрачных знакомых не могли заменить хотя бы одного живого друга. Угасали блоги, иссякали потоки электронных писем. На новостных сайтах заговорили было о небывалом гриппе, но натолкнулись на упорное молчание официальных лиц. Медицина отделывалась общими советами пить витамины и избегать людных мест, а также чаще бывать на свежем воздухе и не тревожиться по пустякам.
Об Эпидемии широко заговорили, когда люди стали умирать. Это началось в середине следующей недели. Первые заболевшие продержались кто пять, кто шесть дней. На первые сотни и тысячи пораженных Вирусом еще хватало лекарств, медсестер и врачей, всей необходимой для поддержания жизни техники. Но даже при всех достижениях медицины выживших не было. Человек заболевал и умирал. Уходил. Закрывал за собой дверь. Шансов на выздоровление не было.
Я понял, что что-то не ладно, когда в понедельник, придя в офис, оказался одним из горстки вышедших на работу к официальному началу дня. Это был филиал столичного рекламного агентства, и обычно в десять там уже дым стоял коромыслом. В тот день меня встретила тишина. Вздохнув, я включил компьютер. Грипп, не грипп, нужно было хотя бы сделать вид, что я занят делом. К одиннадцати народу прибавилось – подошли те, кто так усердно веселился в выходные, что не смог встать по звонку будильника. Позже подъехал шеф, как всегда мрачный после двух дней, проведенных в обществе супруги. Маркус работал дизайнером в издательстве, занимал крошечный кабинетик размером со стенной шкаф и понятия не имел, что творилось вокруг него, погруженный в сложные графические программы.
Наш друг Лу, активист всего на свете, то т самый, с которым я раньше любил поспорить о тщете благих дел, позвонил нам домой вечером и огорошил рассказом о чуть ли не чумой охваченном городе. Он всегда все знал. Помню, ухо мне резанули вряд ли понятные ему самому нотки удовлетворения в его голосе – он годами предрекал крах несправедливой системы, и вот она, наконец-то, начала погружаться в тартарары.
– Больницы переполнены, – с неприятным мне восторгом говорил Лу. – Об этом просто молчат, сволочи. Ребята, запасайтесь едой. Водой. Свечами.
– И смазкой, – мрачно пошутил я . – Ее-то и расхватают первой, чтобы уж взять от жизни все, пока возможно.
– Дурак, – весело откликнулся Лу. – Езжайте лучше в ночной супермаркет. Вы когда таблетки получали? На сколько осталось?
А вот это был разумный вопрос. Прерывать терапию было нельзя. Но, к счастью, мы оба, и я, и Маркус, только что получили запас лекарств на три месяца.
Разговор шел по громкой связи, и мой впечатлительный супруг решил и вправду отправиться за продуктами. Я посмотрел на его бледное лицо и махнул рукой. Мне же надоела рутина? Так чем не развлечение для семейных людей – прокатиться за спагетти и сыром на ночь глядя?
В огромном супермаркете было полно народу. Мне впервые стало нехорошо. Люди не делали покупки в ночь с понедельника на вторник. Так не бывало. И тем не менее, в кассы стояла очередь. У меня мелькнула мысль, что это-то как раз и было глупо – толкаться в толпе людей, возможно, как раз и передающих вирус. Но в мире добропорядочных граждан вирус не «передавали». Так говорили про ВИЧ, чтобы не растравливать раны уязвимых гомосексуалов – «наш» вирус «передавали», и мы с ним «жили», а не заражались и не становились носителями постыдной для остального общества инфекции. Грипп путешествовал от человека к человеку почти бесплотным воздушно-капельным путем, а не несся к новым хозяевам на всех парах при сексе между мужчинами. Все эти соображения пришли мне на ум, пока мы с Маркусом наполняли тележку продуктами длительного хранения. Я не удержался и взял целое ведро клубничного мороженого. Погибать, так с музыкой.
Музыки не было. Улицы пустели: когда стали приходить вести о первых сотнях умерших, люди перестали приходить в офисы, опасаясь заразных коллег; кто-то брал отпуск, кто-то работал из дома; некоторые исчезали. Еще продолжали работать магазины, еще ходил общественный транспорт. Была некая видимость обычной жизни, еще можно было уверить себя, что через день другой все вернется на круги своя.
Вирусу хватило десяти дней, чтобы больницы оказались переполнены. Врачи не понимали, что происходило- казалось, люди сгорали за пару дней от жесточайшего, неукротимого гриппа. Сильнейшая головная боль, внезапная; дикий озноб; температура за сорок; все более затрудненное дыхание; милосердная потеря сознания…
– Я заразился, – прошептал Мапкус, войдя на кухню. – Эрик, у меня мигрень. Это конец.
Он заплакал. Это были тихие, безысходные слезы.
Не знаю, как это описать… Мы привыкли жить рядом со смертью. Для нас она была привычной спутницей – мы не раз бывали на тихих похоронах и негромких поминках, где родственники сгоревшего от нашего привычного Вируса парня держались в стороне от его приятелей. Иногда разыгрывались безобразные сцены, нас с проклятиями вышвыривали вон, желая сгореть в аду. Как будто хоть кто-нибудь из нас стал гомосексуалом по своей воле. Как будто мы не были людьми с человеческими чувствами. Как будто нас не насиловали в детстве. Не пинали ногами в юности. Не пересаживались за столик подальше от нашего в ресторанах – и такое бывало. Как будто нам не понаставили клейм на лбу, не расцарапали до крови везде, куда смогли залезть сальными пальцами.
Мне казалось, я очерствел. Превратился в камень. Мы каждым днем нашего существования говорили миру: «Не сдохнем. Будем цепляться за эту гребаную жизнь до последнего. Вгрызаться в нее. Отвалите. Что есть у вас, святоши? У меня было пять сотен парней, пока я не сбился со счета – молодых красивых диких кошек, и я делал с ними все, что хотел. Брал и отдавался, как вам и не снилось. А что знаете вы? Кто стонал под вами? Кто заставлял вас выть от наслаждения Жена за норковую шубку? Любовница, за пару дней на Лазурном берегу? Кто из нас прав? Кто вы, чтобы судить нас?!»
На меня навалилась чудовищная усталость. Мы проиграли, все-таки, смерть одолела и нас; но никто не посмел бы сказать, что мы не взяли от этой жизни все, что она могла дать нам.
Оставалось уйти, как мужикам. О, нас никогда не считали полноценными мужчинами, словно мужественность определялась цветом волос или фасоном джинсов, но мы ими были. Иногда мне казалось, что мужественности в нас было больше, чем в социально приемлемых самцах из рекламы автомобилей и яхт. Да пошли вы все! Смотрите, как умираем мы, педики и изгои, и учитесь – так нужно прощаться с жизнью.
Я провожу Маркуса, и как только его не станет, уйду за ним – так я решил.
Тогда шел двадцатый день эпидемии. У нас было несколько пачек снотворного, и их я и собирался принять, как только похороню Маркуса. Я знал, где – в старом их фамильном склепе на буколическом городском кладбище. Собью замок, лягу рядом с ним, обниму в последний раз. Ладно, мы продержались, сколько смогли. Пора, так пора.
– Не отдавай меня в больницу, – попросил Маркус. Он вытер слезы. – Не хочу… среди чужих. Если боишься, будь в соседней комнате.
Я обнял его. Отвел в спальню, уложил на кровать.. Маркуса била дрожь. Внутри тела, познанного мной чуть ли не полнее, чем мое собственное, бушевал огонь. От Лу мы знали последовательность симптомов. Без лекарств, продлевающих агонию, у нас не оставалось времени. Маркус уже дышал с хрипом. Я прихватил непочатую бутылку виски и оставшийся чуть ли не с Рождества коньяк. Глоток, еще один. Прощай, друг. Не знаю, что там, за занавесом. Я люблю тебя. Ты же знаешь, люблю. Как умею – никто не рассказывал мне, как правильно двум парням любить друг друга. Пришлось придумать самому.
Мы всегда спали вместе. Мне нравилась немного животная близость сонного тела, нравилось тянуться друг к другу по утрам, нравились ласки в полудреме. Я пил и плакал, пил и улыбался, припоминая наши проделки.
Такая короткая, яркая, бесплодная и бесцельная жизнь.
Хрип, свистящий вдох, пауза, хрип, выдох. Где был Маркус в эти часы, в каком мире? Его жар обжигал меня. Ни одно человеческое тело не могло пережить такой огонь. Он горел.
Я уснул. Сон без грез, прыжок в черную пустоту.
Мощный толчок, и я очнулся.
Маркуса рядом не было. Я вскочил. Чудовищно пульсировало в висках. Рот, казалось, был полон ваты. На полу валялись пустые бутылки. Он не мог уйти; у меня мелькнула жуткая мысль, что, пока я спал, Маркуса забрали. Рывок в гостиную. Пусто. Оставалась кухня. Не помню, чтобы у меня еще когда-нибудь так билось сердце. Я толкнул дверь и зажмурился. Они не могли отнять у меня тело Маркуса, не могли, это было бы чудовищно – не дать мне похоронить его, не дать умереть рядом с ним.
Маркус сидел за столом и ел клубничное мороженое, прямо из картонного ведерка, разглядывая журнал из прошлой жизни. Он испуганно вскинул голову, живой, живой и здоровый, судя по его ясным глазам. Я почувствовал, как мои ноги становятся ватными, в ушах зазвенело, и я сполз по дверному косяку на пол. У меня не было сил говорить, не было сил плакать; я протянул к Маркусу руки и, когда он оказался в моих объятиях, принялся сосредоточенно покрывать поцелуями веснушчатое лицо. Помню, он инстинктивно сморщил нос от запаха перегара. От его губ пахло клубникой.
– Я умирал, – рассказывал Маркус чуть позже, когда мы перебрались на диван, – я знал, что умираю. Мне было невыносимо больно оставлять тебя. Вот так, посреди беды, одного, но шансов не было. А потом, не знаю, как это описать, разом пришло ощущение, что мне ввели чудовищную дозу противоядия. Я задремал, а когда проснулся, был уже здоров.
Моя прогулка по краю Вечности была проще – я так и не смог толком отличить умирание от жутчайшего похмелья. Но поворотный миг был тем же самым – что-то стремительно уничтожало яд в моей и так-то отравленной крови нечестивца.
Эпидемия продолжалась. Морги и два наших городских крематория не справлялись с телами умерших. Их не успевали сжигать, их негде было хранить, на них не хватило бы земли. И тогда запылали чудовищные погребальные костры. Стоял чудесный прозрачный октябрь, тихий и лунный; и днем, и ночью к небу, распахнутому прямо в Космос, поднимался густой зловещий дым. Не знаю, возносились ли вместе с ним души людей. Не уверен.
Вирус, казалось, сам выбирал свои жертвы. На род человеческий напало разумное существо, твердо знавшее, где оно должно было побывать.
На обезлюдевших улицах нашего городка появились проповедники, кричавшие закрытым окнам домов, за которыми люди дрожали от страха, что Вирус – расплата за грехи человечества. Услышав их вопли в первый раз, я невольно рассмеялся. От Лу я знал, как началась когда-то эпидемия ВИЧ. Тогда тот, первый, Вирус объявляли наказанием гомосексуалам за безбожный образ жизни. За несколько десятков лет успело порядком набедокурить все человечество, думал я.
А вот мы почему-то выжили, как выжил Лу, и его друг, и те из наших, кто вообще заболел. О, нас терпели и даже позволяли нам жить и работать бок о бок с правильными людьми – пока мы молчали, вели себя скромно, были бесконечно благодарны за дармовые таблетки и не претендовали на слишком многое. А если нам вслед шипели «педик!», нам полагалось целеустремленно продолжать движение, а не давать оскорбителям в морду. Так почему мы оказались неуязвимыми?
Откуда пришел Вирус?
Был ли он порождением чьей-то злой воли, вырвавшимся на волю бактериологическим оружием? Почему Эпидемия началась одновременно в разных странах? Почему уцелели мы?
И вопрос вопросов – почему Вирус не трогал детей? Да, это стало очевидно довольно скоро – дошколята оказались неуязвимы перед болезнью, дети постарше легко переносили Вирус на ногах, почихав и покашляв, а подростки разделяли участь взрослых, сгорая от невидимого огня. Что спасало малышей – невинность? Но ведь и мы, заклейменные среди заклейменных, оставались целы и невредимы – а что невинного могло быть в нас, едва терпимых обществом мужеложцах?!
К концу сентября появились первые похоронные бригады, к октябрю – военные патрули. Фигуры в костюмах химзащиты обходили дома, забирали трупы; если в квартире или доме никого не оставалось, двери запечатывали. Для детей организовали что-то временного приюта; тех, у кого оставались в живых родственники, отправляли к ним. Видимость власти поддерживали военные. Видимость обычной жизни поддерживала электроника – она включала и выключала электричество на улицах, подавала в дома, полные призраков, воду, обеспечивала связь. Внезапно оказалось, что товаров стало больше, чем покупателей. Конечно, в первые пару недель были случаи мародерства, грабежей, разбоя, но ничто теперь не имело смысла. Безопасность невозможно было купить, опустоши ты хоть все хранилища Национального банка, от Вируса невозможно было спрятаться – он просто приходил за тобой, когда наставал твой черед. Наш тихий городок захлестнула волна оргий – перед лицом смерти люди стремились испытать все возможное.
Мы с Маркусом жили. Мне казалось, парили во времени, став бездумными птицами. Уютная квартирка стала нашей крепостью, недосягаемой для погибающего в хрипах и ознобе мира. У нас была еда, вода, электричество, книги, Интернет. Хотя это казалось лишенным всякого смысла, Маркус терпеливо работал над начатым еще в августе проектом, а я методично правил никому ненужную рекламную брошюру, выданную мне в агентстве в первые дни Эпидемии.
– Ребята, не высовывайтесь, – говорил Лу. – Не отсвечивайте. Еще линчуют, идиоты – с чего это мы выжили и ходим с довольными мордами?! Сгоняли за продуктами, задернули шторы, и дверь на замок. Когда-нибудь все закончится.
Он был прав. Уж если Лу отказывался от служения человечеству, то нам и подавно не следовало развивать гражданскую активность. В этом тихом, сытом, чванном мире мы умели выживать как никто другой. Мы затаились.
Среди наших пошли тихие, тихие, шепотом, разговоры о том, что нас как раз и спасал наш первый, привычный Вирус. Двое убийц вступали в схватку в наших телах, чтобы уничтожить друг друга. Мне эта теория поначалу казалась фантастической. Я жил в реальном мире, или убедил себя в этом – мой материализм не допускал эзотерических объяснений. И все-таки я сдал кровь, не представляя, что могли рассказать врачу из городского центра для людей с ВИЧ наши анализы. Разве что на стене лаборатории появились бы письмена, вещающие о нашей высшей миссии?! Анализы не показали ничего необычного. Вернее, ничего необъяснимого -то, что у всех нас Вирус в крови не определялся, объяснялось успешной терапией. Так? Требовались дальнейшие наблюдения, возможно, в течение длительного времени. Никому не хотелось объявлять о чудодейственных исцелениях военным или властям. Мы ожесточенно спорили до хрипоты – ребятам помоложе хотелось спасти человечество, напоив его собственной кровью. Нам, парням постарше, хотелось и дальше оставаться в живых, на свободе, а не сгинуть в лабораторных клетках. В конце концов по каким-то невообразимым каналам, ведомым только активистам, Лу узнал, что и сам новый Вирус еще не выделен, хотя в Штатах полным ходом ведутся засекреченные исследования с привлечением добровольцев. И вообще неизвестно, и вправду ли это Вирус. Может, это кара небесная. Или проделки недружелюбных инопланетян. Мне не хотелось ни о чем думать. А меньше всего – кого-то спасать.
Когда я только узнал, что заполучил ВИЧ, по глупости рассказал об этом своей тогдашней приятельнице. Ей очень нравилось дружить с настоящим геем, да еще таким симпатичным. Узнав, что со мной случилось, она поначалу держалась молодцом. А потом, когда я забрел к ней в гости, налила мне кофе в пластиковый стаканчик, чтобы выбросить его, когда я уйду. В ванной меня ждала стопка бумажных полотенец. Я не решился остаться у нее для дружеской болтовни. Ей было со мной неловко и страшно. Пришлось бы, наверное, вызывать бригаду дезинфекции. Или вообще от греха подальше менять жилье. Мало ли чего она придумала. Так чего же было пугать молоденькую девчонку?! Это было также нелепо, как рассказывать о себе случайным красавчикам в клубах и саунах – мы зачастую и имен друг другу не называли. Так чего было откровенничать?! Были свои, и были чужие. Для своих я бы постарался. А для чужих…
Дом вокруг нас становился все тише и тише. Все реже пели трубы, все реже хлопали двери. Несколько раз нам в дверь стучали и глухо спрашивали, нужно ли кого-нибудь забрать. Я прогулялся по подъезду нашего особнячка на шесть квартир. Четыре из них были опечатаны. Оставались мы и соседи из квартиры напротив, там жила семья с двумя маленькими детьми. Мы редко сталкивались с родителями; они, должно быть, не выходили на лестничную площадку, если там был кто-то из нас, запирая или открывая дверь – возможно, не хотели заговаривать с непонятными соседями. Да нам и вообще не сдали бы эту квартиру в благопристойном районе города, но владельцем этого дома был парень из наших, получивший его в наследство от деда. У нас были деньги, у него – пустые комнаты, и он, не сдерживая ухмылки, дал нам жилье в самой гуще благопристойных граждан.
Мы не знали, что нас ждет, сколько продлится мор, как долго мы сможем прожить вот так, среди мертвецов, общаясь лишь с горсткой приятелей, не имея ни малейшей возможности заглянуть в будущее . Могло произойти все, что угодно; могли начаться гражданские неповиновения, войны, голод. Не имело смыла даже думать о завтрашнем дне. Мы просыпались, тянулись друг к другу, забывались в ласках, завтракали, долго и бездумно делали упражнения из комплекса йоги, немного работали, выходили на быструю, тревожную прогулку в маленький сквер за углом, обедали, ждали вечера, потом сна. Хотя улицы городка были пустынны, из какого-то атавистического страха мы не выходили из дома после наступления темноты. Где-то щелкало реле, и загорались фонари. Окон домов светилось все меньше. В один из вечером запылала городская ратуша. Ее никто не тушил. Старинная башня и современная пристройка сгорели дотла, унеся с собой городские архивы. Да кому было до них хоть какое-то дело?! Люди умирали, так что было толку хранить их свидетельства о рождении? Выпуски новостей по центральному каналу выходили два раза в сутки и напоминали сводки с фронта, где невидимый враг сминал последние рубежи обороны. Потом настал черед пожаров в пригородах – сходившие с ума от страха обыватели сжигали таунхаусы погибших, надеясь уничтожить заразу. Вирус забирал и их. Огонь был над ним не властен.
Где-то в самом начале ноября в нашу квартиру раздался звонок. К нам иногда забегал Лу, но он всегда предупреждал о том, что придет, по все еще работавшему мобильному – как будто нам было куда уйти. В дверь постучали. Заплакали. Женские рыдания. Мы с Маркусом переглянулись и открыли дверь. На лестничной площадке стояла соседка. Помню ее дикие глаза.
– Билл заболел, – выдохнула она. – А значит, и мой черед не за горами. Пожалуйста, возьмите наших детей. Умоляю. Никого не осталось. Пожалуйста, они очень послушные. Анна и Виктор.
Моей первой реакцией было захлопнуть дверь. Эти люди не имели к нам ни малейшего отношения. Они не поздравляли нас с Рождеством, не здоровались приветливо у подъезда, не приносили по куску яблочного пирога на нарядной салфетке. Так случилось, что напротив них жили два парня, тихие, слава Богу, и приятные, но общаться то с ними было необязательно? О чем могли говорить с геями добропорядочные мать и отец небольшого семейства? Они, должно быть, гордились своей толерантностью, может быть, выпив с друзьями, рассказывали тем, что прямо в их доме, через холл, обосновалась парочка «голубых» – славные на вид, и явно при деньгах, но не дружиться же с ними? Кто знает, что у них на уме, так ведь?!
Соседка вытерла слезы.
-Мы хотим уехать, – она содрогнулась, – уехать как можно дальше на машине, не хотим…. Не хотим, чтобы дети видели. Если я выживу, то вернусь. Возьмите их, пожалуйста. У нас полно еды.
Я хотел было сказать, что умереть они с мужем могут и в любой брошенной квартире, не пускаясь в символический последний путь. Детей могли забрать в приют. Найти родственников. Это было… неправильно. Мы геи. С ВИЧ. Как мы могли позаботиться о двух малышах? Что мы могли им дать, двое отщепенцев?
Потом я понял. Агония вблизи от детей была бы чудовищна. Они хотели проститься с ними, пока еще были в сознании, и дети запомнили бы родителей здоровыми, веселыми людьми. В конце концов, и я сам уже умер, и я сам держал в руках погибающего друга – я познал дикую тоску прощания. Но мы воскресли. Для чего то, зачем то, нам не дали уйти.
Я посмотрел на Маркуса. Он инстинктивно взял меня за руку. Когда-то Маркус любил в шутку говорить, что было бы славно обзавестись ребенком и войти в школьный родительский комитет. В нашей стране такие усыновления не разрешались. Да если бы закон и был благосклонен к мужским парам, уж нам-то точно никто не доверил бы малыша. Мы же заразные. От нас хорошего не жди. Какие уж тут дети.
Маркус робко, едва заметно кивнул мне. За годы общей жизни, за тысячи проведенных вместе ночей я научился так хорошо понимать его, что словно слышал чудесный мягкий голос. Давай рискнем, давай возьмем их, Виктора и Анну. Пусть они поживут у нас. Их заберут, потом, когда Эпидемия пойдет на спад. Или погибнем мы все. В этом аду было одинаково вероятно все.
– Не навсегда, – сказал я. – И если что-то пойдет не так, мы отдадим детей в приют. А пока, да.
В нашей паре с посторонними всегда разговаривал я. Может быть, потому что я был выше ростом и казался старше. А улыбался всегда Маркус. Жаль, что его чудесную, нежнейшую улыбку тогда мало кто видел. Он улыбнулся и в тот раз, и я поймал в глазах соседки странное выражение… Это была не зависть обреченных к выжившим, нет, не зависть… Это было, как если бы в конце жизни она вдруг поняла, что мир вокруг нее всегда был добр и благосклонен, к ней, и равным образом ко всем людям, и что только ее собственные стены не давали ей увидеть полноту человечески чувств.
Так в нашей жизни появились Анна, шести лет, и Виктор, четырех лет.
При прощании, очень коротком, наверное, из-за дрожи, уже бившей их отца, дети не плакали. Я совсем не разбирался в таких малышах, но мне показалось, что они напуганы. Мы с Маркусом должны были казаться им огромными, непонятными фигурами – двое соседей, с которыми им явно не советовали дружиться, теперь становились «старшими», и их нужно было слушаться и хорошо себя вести.
Брат и сестра осмотрелись в нашей квартирке, где, как понял я с огромным облегчением, не было ничего предосудительного – ни огромных фотографий обнаженных томных красавцев, ни фривольных журналов.
-Вы братья? – спросила Анна.
Я непроизвольно вздрогнул, но напрасно.
-Мы очень хорошие друзья, – ответил Маркус. – Самые лучшие друзья, так можно сказать.
Это немудреное объяснение вполне устроило Анну. Вместе с нами они сходили в их квартиру за игрушками и устроились на огромном диване, маленькие и хрупкие до слез, невероятно уязвимые перед огромным, равнодушным миром.
Много позже я понял, что за первые недели Эпидемии наши маленькие гости повзрослели не по годам, оказавшись в самой сердцевине человеческих страданий. Вместо беспечных деньков в любви и заботах любящих бабушек и дедушек, всей их большой семьи, хоть и разъехавшейся по разным уголкам нашей страны, но все-таки дружной, они стали свидетелями стремительного угасания родов, отцовского и материнского. Когда-то, вполголоса рассказывал мне Маркус, для него стала трагедией смерть бабушки. Он до сих пор верит, что, останься она в живых, не уйди так рано, бабушка приняла бы его и застыдила бы отгородившуюся от Маркуса родню. У этих детей не оставалось никого. Мы, совершенно чужие люди, стали их единственной надеждой на выживание в огне Эпидемии. Родители уехали в неизвестность, в спешке, да так далеко, что им нельзя было даже позвонить. Детство закончилось. Понимание глубины трагедии Анны и Виктора пришло ко мне не сразу. В первые дни опеки над малышней мы оба были оглушены таким поворотом судьбы.
Я не представлял себе, как обращаться с детьми, я и со взрослыми-то держался настороже, делая исключение только для своих, но эти двое маленьких людей были необременительными гостями. Их понравился нехитрый ужин- разогретая в микроволновке пицца и ванильный десерт в стаканчиках; мы вместе посмотрели прихваченные из их прежней жизни мультики. Все самое важное в нашей квартире происходило или на кухне, или на диване. Брат с сестра сидели рядом с нами, по бокам, инстинктивно выбрав себе родителей – Анна устроилась рядом со мной, чинно сложив ручки на коленях, а Виктор осторожно придвинулся к Маркусу.
– Я могу помыть посуду, – тихонько прошептала Анна. – И, знаете, у нас дома есть запас воды; папа сказал, на всякий случай. А у вас? Эрик, нас не обязательно вот так кормить, прям как в ресторане. Я умею бутерброды делать, честно. И никогда не режусь ножиком. Мы вам не будем мешать.
Я очень, очень осторожно погладил маленькую храбрую девочку по русой голове с двумя хвостиками. Она застенчиво мне улыбнулась. Вздохнула. И мигом позже уже смеялась приключениям какого-то кролика-недотепы. Ко второму мультику ее брат не выдержал и перебрался к Маркусу на колени. Тот кинул на меня совершенно ошалелый взгляд. Всего этого никогда не должно было случиться. Но, тем не менее, это происходило на самом деле.
На ночь дети вернулись к себе, в детскую. Мы включили и проверили радионяню, убедившись, что слышим наших подопечных через холл, посидели с ними, пока они не заснули, по детски стремительно. Я забыл, как быстро засыпал в их возрасте, разом перешагивая в мир грез.
Мы оба улеглись чуть ли ни вслед за ними. Посмеялись в темноте. Поцеловались. Вот это было привычно, это была наша жизнь – знакомые губы, щетина на скулах, родинка под правой лопаткой Маркуса, которую он маниакально запрещал мне трогать, уверенный, что я ее сковырну, и к которой почему-то вечно тянулись мои пальцы.
Я задремал, потом сон стал глубже. Часа через три я очнулся от толчка. Дети были совсем одни, в большой опустевшей квартире. Воображение тут же услужливо нарисовало мне всех выживших извращенцев, направляющихся прямиком к нашему особнячку. О чем мы думали, двое здоровых мужиков, оставляя малышей совсем одних? Я застонал от собственной глупости, натянул спортивные штаны и футболку и кинулся в квартиру соседей.
Там было тихо. Дети спали. Горел ночник, пахло карамелью. Брат и сестра еще не знали, что стали сиротами. И я заплакал. Тихо, горячо, чувствуя, как теплеет мое сердце. Сел на пол у двери, охраняя покой Анны и Виктора. Рядом опустился Маркус, пришедший вслед за мной. Наши пальцы привычно сплелись. Мы словно были одни на планете , затерянные в Космосе, возможно, никому не нужные, порожденные стечением обстоятельств, обреченные кануть в холодный мрак. Или это было не так? Или мы были нужны и важны кому-то, непостижимому для человеческого сознания, кому-то, стремившемуся постигнуть себя через свои творения?!
– Давай сделаем для них все, что можем, – мечтательно прошептал Маркус. – Это, наверное, интересно, когда рядом растут люди. Ну, я хочу сказать, мы же забыли, что сами когда-то были детьми. Это наш шанс вспомнить себя, так, любовь моя?
Я осторожно поцеловал его. Темнота вокруг нас была призрачной, полной загадок. Убедившись, что малышам ничто и никто не угрожает, мы поднялись и вернулись к себе. Мы не знали, было у нас будущее; однако, пока мы отдавались ласкам, проходя привычный, и вместе с тем всегда новый, путь к наслаждению, мы были живы. Мы бывали близки много, много раз, в самых разных обстоятельствах, за все проведенные вместе годы, но в ту ночь впервые в жизни я не тонул в волнах чувственности бездумно, безоглядно – даже за миг до начала дикой гонки к финалу новый, незнакомый мне самому я бессознательно прислушивался к детской рации, готовый кинуться на защиту вверенных нам судьбой хрупких существ. Уже утром мы с Маркусом поняли, что так, наверное, любят друг друга супружеские пары с маленькими детьми.
Когда на следующий день мы собрались прогуляться в сквере, Анна взяла меня за руку. Помню незнакомое мне прикосновение крошечных пальчиков и теплую ладошку. Я вообще ничего не знал о детях, забыв свои первые годы в этом мире так безвозвратно, как будто никогда не был маленьким; у меня не было племянников и племянниц, я не стремился к отцовству, убежденный, что оно не для меня, искренне не понимал, с чего вдруг наших приятелей охватывало непреодолимое желание оставить после себя потомство. До тех дней я жил в мужском мире, соприкасаясь с обычными людьми только на работе или, разве что, когда мы делали покупки. В нашем городке нас удерживала работа – иначе мы оба давно перебрались бы в гей-квартал столицы, за невидимые крепостные стены.
– Не отдавайте нас, пожалуйста, в приют, если мама задержится, – проговорила Анна, глядя на меня снизу вверх. – Эрик, мы будем хорошо себя вести. Мы очень стараемся. Нас мама и папа не найдут, если мы будем у чужих.
На меня смотрели умоляющие глаза.
-Мы вас не отдадим, – серьезно ответил я. – Никогда, ни за что. Клянусь.
Пока Маркус закрывал дверь, Анна что-то быстро прошептала на ухо брату, и то расплылся в чудесной улыбке, похожей, как ни странно, на улыбку моего любимого. На улице Маркус посадил Виктора себе на плечи. Мы переглянулись. Наверное, у нас был одновременно очень важный, и очень глупый вид. Без малейшего предупреждения мы стали семейными людьми.
Нам встретился патруль, мы инстинктивно сжались, готовые объяснять, откуда у нас дети. Но изможденные военные всего лишь улыбнулись нам и обреченно продолжили путь. Никому не было до нас дела.
В те первые дни я поражался детям, их удивительной гибкости, позволявшей им играть и смеяться в разгар Эпидемии. Мы сами уже забыли, что такое хохотать просто потому, что тебе смешно. Поймите, ничто в моей жизни не подготовило меня к такому повороту событий, я никогда не смог бы представить, что буду в ответе за малышей, что окажусь так близко к миру детства.
Поначалу нас с Маркусом охватил страх. Что, если мы сами, не в пример Анне, порежемся? Что, если наша кровь попадет на какую-нибудь детскую царапинку? Как нам жить – всем вместе? О чем разговаривать с детьми? Что, если у них что-нибудь разболится? Нам не на кого было рассчитывать, кроме себя – не приходилось ожидать появления добрых фей в образе мудрых бабушек с советами по любому поводу. Мы поступали, как считали нужным. Спросить с нас было не кому. Да и жизнь с нами была в любом случае лучше, чем в приюте.
Потом нам стало страшно за себя. Что, если мы сами все-таки не выживем? Неужели детям придется остаться совсем одним? Только не это.
Наши с Маркусом жизни, жизни двух геев, никому прежде ненужных, вдруг стали чрезвычайно важны. У нас появилась цель- уберечь брата и сестру во чтобы то ни стало. Защитить их. Согреть. Помочь пережить горе. Накормить. А если для этого нам предстояло вновь сразиться с миром – мы были готовы.
Было немало смешных минут, прелестных зарисовок непрошенного отцовства двух геев за тридцать. Выяснилось, что Виктор не умел завязывать шнурки. Он попросту выдергивал их из крохотных по нашим представлениям ботинок и прятал куда-нибудь подальше, убежденный, что мы выставим его, и сестру заодно, вон, сраженные его неумелостью. Первым попробовал свои таланты в обучении завязыванию шнурков я. Виктор внимательно следил за моими действиями, а потом вдруг сморщил носик и заплакал. Я в сердцах позвал Маркуса. Что же ждало нас дальше, если я не мог научить парня правильно обращаться с обувью?! Маркус принес свой, немаленький ботинок. Виктор, шмыгая носом, попробовал завязать большие шнурки. Мучительно долго он возился с ними, покачивая чудесной белобрысой головенкой, и наконец-то завязал вполне правдоподобный узел. После этого дело пошло проще, и следующие пару недель мальчуган завязывал все, что только попадалось ему под руку, а вернее – под ручку.
Эпидемия пошла на убыль после Нового года. Страна была растерзана. Потери были колоссальными, ужасающими; позже мы узнали, что Вирус забрал от трети до половины населения – оценки разнились, а перепись не провели до сих пор.
Мы пережили холодную зиму, а потом жизнь в новом, непривычном мире стала налаживаться. Были черный, мрачный декабрь, перебои с электричеством, когда что-то приключилось на одной из городских подстанций, кажущаяся нехватка продуктов, напугавший нас снегопад, совсем непривычный в наших местах, тихий Новый год, распахнутое окно января, слухи, оказавшиеся ложными, об аварии на АЭС. Были тяжелые, бесконечные мартовские вечера, когда детей охватила тоска по родителям. Они то и дело плакали, прислушивались к малейшим звукам, не отходили от нас ни на шаг и отказывались засыпать без света. К тому времени мы перебрались в квартиру попросторнее, оставшуюся без хозяев, в том же доме. Я несколько раз заставал Анну у дверей их прежнего жилья. Я не торопил ее. Входил с ней внутрь. Девочка проходила по комнатам, где еще оставались вещи ее родителей (мы разобрали их много позже). Потом она тихонько возвращалась ко мне. Брала меня за руку, и мы поднимались наверх, в новые, еще не обжитые нами комнаты. От ее горя у меня ныло сердце. Я ничем не мог помочь.
Мы выжили.
Осиротевших детей оказалось так много, а взрослых осталось так мало, что стало возможным невероятное – мы с Маркусом официально установили опеку над Анной и Виктором, а когда годом позже без излишней шумихи разрешили регистрировать браки между партнерами одного пола, то поженились. У нас появилась звучная двойная фамилия и обручальные кольца. В тот год было много таких свадеб.
Я не уловил миг, когда дети перестали ждать родителей. Маркус не раз говорил им, что, где бы ни были их папа и мама, они в хорошем, светлом месте. Аннушка и Вик, так мы стали звать наших ангелов, временами прелестных и тихих, временами – отчаянных проказников и сорвиголов, поверили ему. Это изумляло меня – то, как легко дети верили нам, верили на слово, как старшим и более мудрым.
Лу тоже стал приемным отцом. Умерла его сестра, оставив непутевому брату двухлетнюю племянницу. Его друг Марк, которого я всегда считал манерным, глупым, и не любил за привычку тянуть слова и томно поводить глазами, быстро возмужал и возился с малышкой так, словно вырастил пятерых.
Он с тревогой смотрел на своего рослого спутника жизни с крошечной Лизой на руках, пока тот , устроившись на нашем диване, бушевал с тем же жаром, с каким раньше обличал гомофобов и ханжей:
– О моя милая! Ты вырастешь в мире, где женщины будут подлинно равны с мужчинами. Не волнуйся, детка, мы не дадим тебя в обиду! Твой муж будет тебя уважать, поверь!
– Тише, – и Марк нежнейшим жестом поправлял локон их сокровища. – Не шуми. И дай ее мне. Давай, давай. Она и моя тоже.
-Будет уважать, уж точно, – хохотал Маркус. – Иначе мы его, беднягу, живо…
-Дети! – мы заходились от смеха. – Не при детях!
Так мы и живем, на новой Земле, которую довелось унаследовать нам, изгоям и невинным. Никого больше не волнует, что мы не похожи на большинство, потому что большинства больше нет. Как нет и религий, порицающих человеческую природу – они не выстояли перед Вирусом, и теперь нам, или нашим детям предстоит создать новые.
И вот еще что. Исполнилась мечта Маркуса. Он вошел в школьный родительский комитет. Он там, на заседании, а я сижу на лавочке в парке и дописываю эти строки на лэптопе, пристроив его на коленях. Аннушка болтает с подружками, Вик что-то строит в огромной песочнице со своей первой большой любовью – похожей на прелестную куколку девочкой, приемной дочкой наших друзей. Скоро мы встретимся и пойдем домой, мы и наши дети, нашедшие нас о огне Эпидемии.
Ноябрь 2012 г.
www.parniplus.com