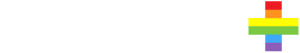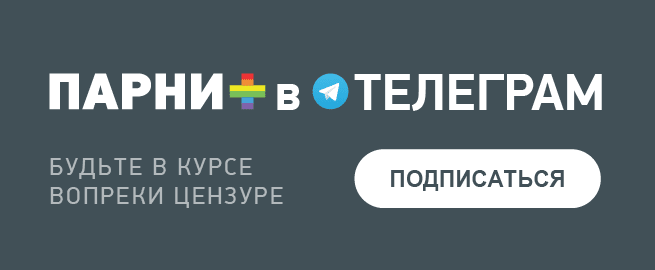Белорусский гей-активист о том, что он понял за полвека жизни
Наш постоянный автор и друг редакции Вячеслав Бортник отметил полувековой юбилей. В прошлом он – известный квир-активист в Беларуси. Сейчас уже много лет живёт в США, вдали от ужасов тоталитарного режима. Его биография – сама по себе летопись всего, что происходило с нашим сообществом в последние полвека. Поэтому мы решили единым массивом опубликовать заметки Вячеслава, посвящённые разным эпизодам его собственной жизни и прекрасно передающие вайб тех времён. К тому же, это просто здорово написано! Не пожалеете, даже если вам ещё очень далеко до пятидесяти.
***
В конце концов, мы все станем историями.
Маргарет Этвуд
Гомель, 1974
Родился я 22 июня в 4 часа утра, поэтому не удивительно, что тема войны так часто занимала мои детские мысли. На втором месте после неё шла тема смерти, на третьем – коммунизм, и только потом уже сексуальность, и, наконец, – будущее.
А вот будущего могло бы и не случиться. Воды у мамы отошли за месяц до поставленной даты. Схваток не было, и соседи решили, что волноваться нечего, включая акушерку из первого подъезда. Если бы не мой сердобольный дедушка, не жить бы мне на этом свете. У нас телефона не было, и дед побежал к соседям вызывать скорую. Была суббота. Врачей обычно нет на смене, только акушерки. А вот повезло, доктор ещё не ушла. Сердцебиение почти не прослушивалось. Маме в срочном порядке сделали рассечение и вытянули меня вакуумом. Вышел я совсем синим, с пуповиной, дважды обёрнутой вокруг шеи, не кричал. Меня сразу унесли и вернули маме только через два дня.
Как сказал Эдичка Лимонов, “не можешь умереть – надо жить”. Ах, дедушка-дедушка, что бы было, если бы тебя не было?
Гомель, 1981
На Красноармейской мы жили с бабушкой и дедом. Захожу к деду в комнату.
– Прикрой за собой дверь, – говорит дед.
На коленях он настраивает свой старый приёмник. Наконец раздаются знакомые позывные:
– Говорит “Немецкая волна”.
Так торжественно. Иногда дед слушает “Голос Америки”, позывные которого я тоже сразу узнаю.
– Никому не рассказывай, что мы тут слушаем. Деда могут посадить.
Мне семь лет. Я уже знаю, что дед сидел, но пока не понимаю, как такое могло произойти с моим самым любимым человеком.
Гомель, 1993/1996
В начале 90-х я пользовался псевдонимом Мама Икс. Мама Икс была художницей, а также сочиняла так называемые Перлы. Вот некоторые из них:
Каждый из нас ставит себя центром космоса, но как велика бездна нашего незнания!
Мы всю жизнь довольствуемся огрызками, потому что боимся сломать зуб о мякоть настоящего плода.
Счастье – воспоминание о несчастьи.
Счастье и несчастье всегда ходят рядом, но лучше плохо, чем вообще никак.
Жизнь – один большой жертвенник, на который мы приносим самих себя.
Измерить температуру – то же, что признать себя больным.
Самое лучшее купание – это купание в воспоминаниях детства, своих, чужих – не важно.
Спор ни на шаг не приближает нас к истине, а лишь выдаёт за оную одно из двух заведомо ложных мнений.
Единственное агрегатное состояние свободы – призрак.
Внутренний мир влагалища отдельно взятой женщины может быть глубже и насыщеннее внутреннего мира всех остальных людей, вместе взятых.
Культура – претворство, доведённое до изыска.
Слава человека – официальное признание его ненормальности.
Наиболее глубоко проникнуть в суть вещей может только тот, кто не верит.
Жизнь есть цепь разочарований в людях и, в конце концов, в самом себе.
Жалость сродни презрению.
Эстетствование – удел слепоглухих.
Предательство – одна из радикальных форм прогресса.
Зависть – краеугольный камень цивилизации.
Только наше невежество делает нас либо счастливыми, либо несчастными.
Красота – путь к истине через заблуждение.
Гомель, 1994
Забежал к Поэту[i] на пять минут выпросить новых стихов для самиздатовского литературного журнала, отцом-основателем и редактором которого я являлся. Папа с мамой остались курить на улице. Это, конечно, не мои настоящие папа с мамой – это мы так играем. “Папа” почти на год меня младше, а “мама” почти на год старше. А я у них “сынуля”. Позже я обзаведусь ещё “женой” и “дочей”, но это уже другая история.
Поэт завлекает меня разговорами и не хочет отпускать. Вдруг дверь в его комнату отворяется и на пороге вырисовывается высокий красивый молодой мужчина с букетом цветов. Никогда в жизни не видел, чтобы мужчины дарили друг другу цветы. Теряю дар речи и понимаю, что я здесь явно лишний. Вылетаю из дома Поэта как ошпаренный.
С папой и мамой идём пить к Бессмертному, где до позднего вечера я думаю о незнакомце, но всё не решаюсь позвонить Поэту.
Наконец решаюсь:
– Кто это был?
– А что, понравился?
– Да.
– Так забирай. Он мне уже надоел.
– Как?
– Приходи ко мне в субботу с бутылкой вина, а там видно будет.
Ещё только четверг. Как же дожить до субботы? Я уже знаю, что это будет мой первый бойфренд, и мысль об этом скрашивает ожидание.
Гомель, 1994
Стихотворение, которое посвятил мне Поэт.[ii]
В.Б.
За грубостью мы часто прячем нежность.
А в шутовство — закутаем
печаль.
Слепящая лежит на сердце
снежность,
Палящая накинута вуаль.
И даже зная, где твои дороги,
У перекрестков я тебя не жду.
Я шел к тебе в такт ритма
вальса Доги[iii]
По тонкому, крошащемуся льду.
Я долго зяб. Мне и сейчас не жарко.
Сады пьянят, а чудится
метель.
Пусть будет нежный поцелуй
подарком
И белая не тронута
постель.
Королёво, Минский р-н, 1998
– У тебя есть сигареты? – спрашивает Марат, с которым мы только что познакомились.
– Есть, – отвечаю я.
– Покурим?
– Давай.
– Только надо отойти за тот дом. Не хочу, чтобы наши видели.
– Ну пошли.
Видно, что Марат курит с удовольствием, а я больше за компанию. Растоптали бычки.
– А ты знаешь, что здесь курить не разрешается? – строго спрашивает Марат.
– Нет, не знаю, – равнодушно отвечаю я.
– Ты чего меня соблазнил? Да ты не иначе, как Люцифер, – смеётся Марат.
– Ну а ты, небось, Творец в таком случае?
Оба хохочем.
Впереди нас ждали пять суток промывания мозгов приверженцами секты мунитов, а друг для друга мы так и остались Люцифером и Творцом.
Гомель, 1998
Вчера ходили в гости к Жабе, который в то время занимал значительную должность на БелЖД и воровал вагонами. С Жабой дружили мои знакомые; мне же он никогда не нравился. Помню, он всегда держал себя как царь. Например, сожитель должен был снимать ему сапоги, а зачастую и целовать их.
К Жабе мы притащились с компашкой, с которой гуляли в Гомельском пароходстве. Там тоже в то время всё распродавалось направо и налево. А чего ж вы хотели от лихих 90-х?
И угораздило же меня притащить туда Шкандыбова. Для меня самого до сих пор загадка, как я мог пустить в свою жизнь этого психопата. Хотя, наверное, я всё знаю, просто не хочу самому себе признаться.
В общем, каким-то макаром Шкандыбов очутился со мной у Жабы. Я уже успел хорошо набраться в пароходстве. В молодости, когда напивался, у меня начиналась фуга. Проявлялось это замечательное явление таким образом: где бы ни находился, я бросал всё и вся и начинал двигаться в направлении своего жилища, чаще всего бегом. Как правило, уходил по-английски. Друзья знали и не обижались. Сидя у Жабы, в какой-то момент я понял, что пора домой, и ушёл, оставив там Шкандыбова. Жаба жил совсем неподалёку.
Я уже видел не первый сон, когда среди ночи раздался звонок телефона. Говорил Жаба:
– Ты кого ко мне привёл? Твой товарищ просит денег и называет тебя поручителем. Могу дать, если ты поручишься…
– Что? – пытаюсь въехать в суть спронья. – Ни в коем случае. Гоните его в шею!
Шкандыбов пришёл под утро. Полночи где-то шатался по ночному городу. Вся эта история конкретно высадила меня на коня.
– Что ты там говорил Жабе?
– Ничего.
– Ну как ничего? Ты просил у него денег, выставляя меня поручителем.
– Неправда.
– Ну конечно. Не вздумай больше делать ничего подобного.
Шкандыбов метнулся на кухню и вернулся с болшим кухонным ножом, который тут же приставил мне к горлу. Какое счастье, что в то мгновение я воспринял это в шутку и не испугался. Не помню уже каким образом отобрал у него нож. Инцидент был исчерпан.
В тот день Шкандыбов пропал из моей жизни навсегда, хоть до этого мы общались, не совру, каждый день. Вместе с ним пропал мой университетский диплом, которому он всегда завидовал.
Через год Шкандыбов зарезал моего приятеля. На этот раз шутка не удалась.
Гомель, 1998/1999
Зарисовки из старого дневника
* * *
Дубоделу[iv]
Улыбка на твоих губах полна дружелюбия.
Красив в своей незамысловатой самости,
Ты – извечный страж наших пьяных бессонных ночей.
Хрупкая пальма приятельства радует безмерно,
Гармонично вплетая твои редкие фразы
В пустовато-прожигательное ощущение праздника.
* * *
Юре Гуриновичу
Ты – заставляющий цепенеть от одного взгляда питон,
Ты – электризующий метры вокруг себя скат,
Ты – раздирающий чужую плоть саблезубый тигр,
Ты – засыпающий в нарколепсии Феникс.
Ты открываешь ещё один глаз на моём теле.
* * *
Танцующий тюльпан
Твоё гибкое молодое тело так желанно похотливым выродкам семени Аргуса[v]
И так недостижимо для них.
Ты всегда будешь чуждым смертной плоти.
Влюблённый в самого себя, будешь отдаваться лишь
Одному бесплотному красавцу – танцу.
Чудесное слияние
Эдику Тарлецкому[vi]
Я затягиваюсь сигаретой и вспоминаю… вспоминаю тебя…
Ресторанчик в Восточном Индокитае. Пустой полумрак зала. В тусклом свете одинокого светильника моя возбуждённая рука выводит у тебя на груди французское слово mélange. Буквы мерно движутся в такт твоему дыханию.
Утопаю в густой сини твоих остекленелых глаз, и с моих губ срываются кажущиеся такими глупыми и бессмысленными слова: “Почему ты не хочешь заниматься со мной любовью?”
Через целую вечность ответ твоего влажного рта: “…Потому что я люблю тебя…”
Где-то в глубине зала тихая музыка и ослепительной красоты мальчик, читающий Рембо[vii]:
Он принадлежал своей жизни. Черёд доброты наступил бы спустя столько времени, что успела бы родиться новая звезда. И хотя я об этом даже и не мечтал, Обожаемый приходил, не вернулся и больше никогда не вернётся.
Я засыпаю на твоей широкой груди.
* * *
Марату
Одиноко в пивнушке слушать голос твоего незатейливого двойника.
Ты всегда рядом и являешься мне в новом обличьи:
Ты – тринадцатилетний Миша, чувствительный мальчик в моём кабинете,
Ты – молчаливый Олег, дарящий свои тишину и объятья,
Ты – альмадоваровский Бандерас в голубых плавках,
Ты – красавец-проводник Жан-Марк Барр[viii]…
Нет чувственее тебя, моя длинноногая чёрная роза.
* * *
Lozano
Сегодня вечером я одинок. Я одинок с тобой.
Ни с кем другим я не бываю так одинок, как с тобой.
Молодые самцы в троллейбусе и элегантная старая проститутка в фиолетовом пальто с длинным белым шарфом через плечо красиво оттеняют моё сладкое одиночество с тобой…
И лишь тонкая сигарета – единственная подруга мужчины – причащает меня тебя, бесплотного призрака, затерявшегося в чарующем голосе ночи.
Моё сердце разрывается от одиночества вдвоём.
Яблонецкий перевал, 1999
Заканчивалась смена в католическом лагере, куда я поехал воспитателем с группой сотрудниц нашего детского консультативно-диагностического центра. Я тогда работал детским психологом и был не только единственным воспитателем-мужчиной, но и самым молодым. Ближайшая мне по-возрасту сотрудница была на шесть с половиной лет старше. Всю лагерную смену она пыталась меня соблазнить, а я в свою очередь пытался всеми доступными средствами довести до её сознания, что мы не более чем друзья.
Предпоследняя ночь. Начальство лагеря раздобрилось напоследок – шашлыки, алкоголь рекой. Наши тётки пошли спать в районе двух, наверное, а мы с сотрудницей сидели до самого утра. В ту ночь мы конкретно “напраздновались”. В какой-то момент я должно быть отключился и пришёл в себя в объятиях сотрудницы. Её губы жадно впивались в мои. Отстранил её со словами:
– Ты, конечно, извини меня, но я на самом деле хочу, чтобы мы остались хорошими друзьями.
Мы так и не легли спать в ту ночь. Утром сдали детей сотрудницам и завалились на траве у горного ручья опохмеляться. Я ещё в 1993-м окончательно завязал дурить голову женщинам и решился на довольно рискованный шаг, рассказав сотруднице всё как есть. Она, конечно, не поверила и решила стать моей “бородой” (хоть её об этом никто и не просил), тайно затаив надежду меня “исправить”. Не помню уже, с какой глупости мы в шутку стали обсуждать тему нашей возможной женитьбы. С перепою, наверное.
– Представляешь лица наших баб? Все выпадут в осадок.
Тогда всё это казалось таким смешным. Как выяснилось позже, шуткой это было только для меня. Я и представить себе не мог, что эта женщина будет преследовать меня на протяжении более четырёх лет, что мне придётся уйти с работы и даже уехать из родного города.
Гомель, 1999
Сидим на кухне у бывшего однокурсника, умнейшего человека, между прочим. Возможно, он самый молодой кандидат физико-математических наук в истории моего универа. Однокурсники мы по второй специальности – психологии, а по первой он “физик”, а я “лирик”, как говорится.
Однокурсник некрасив: избыточный вес, редеющие волосы, очки с сильными линзами (за что в определённых кругах он получил кличку Очколуп), ранняя отдышка.
– Мы всё-таки не мальчики уже, – говорит однокурсник.
И это при том, что нам по 25, и он на два месяца меня моложе.
Однокурсник рассказывает, как надо развлекать гостей во время сексуальных оргий:
– Для таких случаев у меня в соседней комнате припрятана книга анекдотов. Когда моё красноречие иссякает, я незаметно исчезаю в эту комнату и быстренько читаю пару-тройку свежих анекдотов.
Сама тема разговора настолько дика и неправдоподобна, что я с трудом сдерживаю смех. Не верю не единому слову, и всё равно в голову лезет образ жирного белёсого тела однкорусника, исчезающего в заветной комнате.
Через пару лет наши пути разойдутся, после того как он приоткроет мне глубины своей чёрной души. Однокурсник боялся быть пойманным с поличным и в кармашке на груди всегда носил с собой яд.
– На всякий случай, – объяснял мне однокурсник.
Однажды такой случай настал. Однокурсник не ответил перед властями и теми, чьи жизни исковеркал. Но от ответсвенности перед Богом ему не отвертеться.
Жлобин, 2001
Позвонил Витя и сказал, что лежит в больнице. Я, недолго думая, спаковал сумку с гостинцами и побежал на дизель. В Жлобине быстро нашёл больницу.
Витя лежал в палате один, соседняя койка не была занята. Кажется, пациента отпустили домой на выходные. Водрузил арбуз на тумбочку и потрогал Витин лоб. Горячий.
– Тебе температуру меряли, бедолага? – нежно-строго спрашиваю я.
– Нет, – отвечает мой любимый.
Я побежал в коридор искать сестру.
– Вы ему температуру меряли? Он же весь горит!
Померяла. За 40.
– Немедленно дайте ему жаропонижающее!
Что-то ему вколола. Тепература резко пошла на убыль.
Вы бы только знали, как мне хотелось залезть к Вите под одеяло и просто лежать с ним в обнимку весь день. Даже были мысли о сексе. Но как? Дверь в палату не закрывается изнутри.
Как все настоящие пацаны, Витя не хотел лежать в постели. Едва почувствовав облегчение, залепил мне:
– Пошли гулять.
– А тебя отпустят?
– А мы никого спрашивать не будем.
Пока Витя одевается, не могу оторвать от него глаз. Он немного ниже меня ростом (хоть мне всегда нравились парни повыше), коренаст, широкоплеч, вмеру подкачан. Мордашка бандитская, но что-то в ней есть и детское. Голубые глаза, широкие скулы, разбитая бровь. В прошлом Витя был профессиональным боксёром и часто дрался за разных криминальных авторитетов. Всё это вкупе с тем, что его надо делить с женщинами, делает моего любовника ещё более желанным.
Мы шаримся по каким-то дворам, где Витя знакомит меня с местной шпаной и рассказывает о своей юности – вот здесь он жил в детстве, а здесь дрался за того или этого. Жизнь, которой у меня не было. Заходим к нему домой, где сидит его сожительница-малолетка. Не помню имени.
– Тебя отпустили? – спрашивает она.
– Нет, Славка в гости приехал, и мы пошли гулять, – отвечает мой возлюбленный.
– А мы пойдём в воскресенье на ярмарку, если тебя выпишут? Я так хочу сладкой ваты.
– Видно будет.
Думаю, как же повезло этой мокрощёлке, и она даже не понимает своего счастья.
Уже вечер. Вижу, что у Вити снова поднимается температура. Надо возвращаться в больницу. Провожая, улучаю пару кратких мгновений, чтобы поцеловать любимое лицо, пока никто не смотрит. Так не хочется уезжать, но ночевать у Вити в палате мне никто не позволит.
С Витей никогда не знаешь, когда увидимся снова. Может поэтому я его так сильно люблю?
Гомель, 2004
Звонила жена:
– Ну что, может разведёмся?
– Можно, – ответил я.
К тому времени мы были в браке четыре года, хоть изначально договаривались на два. После двух лет решили созваниваться ежегодно, чтобы пересмотреть намерения. Год назад ничто не препятствовало продолжению нашего, я бы сказал, удачного во всех отношениях брака, но к 2004-му появились некоторые обстоятельства. Я уже почти год был в серьёзных отношениях с моим будущим мужем, а жена крутила шашни с итальянцем и даже планировала переехать к нему в Милан.
– Слава, мне как женщине, неудобно быть виновницей развода. Мужчине всё-таки проще в этом плане.
Так мы решили сделать из меня злостного бабника. Естественно, такое не могло мне не понравится. Помог жене состряпать исковое заявление, быстро пролетели три месяца испытательного срока, наконец пришла повестка в суд Центрального района.
Сидим в Пионерском сквере под зданием суда, дожидаемся назначенного времени. Перечитываем “жёново заявление” и смеёмся без остановки. Тут же планируем, как будем отмечать успешный развод.
– Давай постараемся не смеяться в зале суда, – говорю жене.
– Давай. Ха-ха-ха, – давится от смеха жена.
Наконец мы в кабинете судьи. Кабинетик совсем маленький; судья, секретарша и мы еле-еле в него помещаемся. Всё не так, как мы представляли, поэтому кажется ещё смешней.
Судья зачитывает заявление истицы:
– …супружеские отношения прекращены, систематические измены мужа с другими женщинами…
Мы с женой держались с самого начала суда, но тут не выдержали и прыснули со смеху.
– Я сейчас вас удалю за двери. Устроили тут детский сад, – крикнула в нашу сторону судья.
В наши планы это не входило, поэтому пришлось сдерживать смех до конца заседания. Развели, одним словом. Вспомнилась “Свадьба” Зощенко из фильма “Не может быть”. Развод отмечали пивом в том же Пионерском сквере под зданием суда. Здесь уже никто не мог нам запретить насмеяться вволю.
Гомель, 2014
Сижу у отца в палате. Пару недель назад к нему приходила белочка. Бегал голый с топором по подъезду, выбрасывал вещи с балкона пятого этажа. В какой-то момент отец обмяк, упал на диван и больше уже не вставал с него. Я был в Мюнхене. Мама вызвала бригаду; отца увезли в больницу.
Отец журит меня за то, что я разожрался. В молодости он был кандидатом в мастера спорта по многоборью. Послушать отца, так самое главное в жизни – это оставаться худым. В детстве я всегда был для него слабаком, а сестра – толстухой. А теперь вот и я “разожрался”.
Отец смотрит в окно у меня за спиной. Там – жаркий августовский день, солнце, сосны.
– Как бы я хотел туда, под деревья, хоть ненадолго, – говорит отец.
У меня в голове: завтра его выпишут, мне скоро улетать, не могу повесить это на маму, надо найти сиделку и прошерстить дома престарелых…
Отец смотрит в окно сквозь меня. У него такие грустные глаза. Ему 62, а выглядит на все 90. Нижняя часть его тела парализована.
– Иди, а то будешь только расстраиваться.
Назавтра отца не стало. Пожалел нас Бог. Я до сих пор часто думаю про те сосны.
Вашингтон, 2024
Через неделю мне 50. Я уже одиннадцать лет живу в США. Это совсем другая жизнь. Иногда мне кажется: всё, что было до этого, будто и не со мной было. Конечно, многое из той жизни уже и забылось. Не забываются только детские мечты. Одну из них осуществлю 22 июня – отмечу свой день рождения на Острове Пасхи.