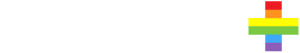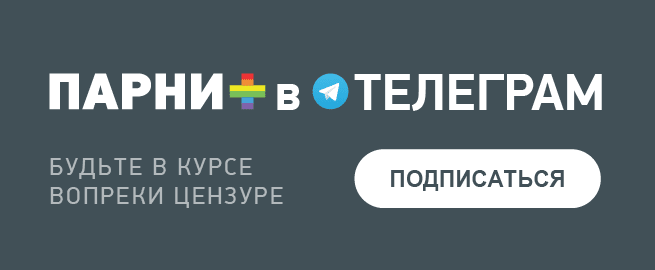Ульяна Малашенко поговорила о страхе, стыде, любви и надежде с тремя людьми, пережившими эпидемию этого заболевания в США.
Тогда я решил инсценировать собственную смерть
Марк Ольмстед, 59 лет

Фото: Майкл ван Эссен
Я понял, что гей, довольно рано — в шестнадцать, и следующие несколько лет университетской жизни утонули в беззаботном веселье манхэттенского ЛГБТ-сообщества. Я был юн и любвеобилен.
В начале 1980-х я совершил каминг-аут перед братом. Выяснилось, что он тоже гей. Несколько лет спустя каждый из нас прошёл тест на ВИЧ, и у нас обоих обнаружили вирус иммунодефицита человека.
Болезнь ударила по брату первым, и мне пришлось переехать в Лос-Анджелес, чтобы заботиться о нём. На мне оказалось ведение всех его дел, включая финансы.
В 1991 году мой брат умер. У него остались невероятные долги по кредитным картам за лечение, но я смог выплатить все.
О смерти брата я не сообщил банкам. Мне сложно сказать, почему я не сделал этого. Наверное, просто находился в состоянии паники. Мой брат угас всего за три года, и мне казалось, что со мной произойдёт то же самое.
Мой брат был доктором. У него был высокий заработок и отличная кредитная история. Я всё еще мог сам платить по своим счетам, но понимал, что так будет продолжаться недолго. Доступ к кредитным картам брата был моей подстраховкой. Я решил, что при самом плохом раскладе они позволят мне не только свести концы с концами и продолжить платить за квартиру, в которой раньше мы жили вдвоём, но также и путешествовать, и развлекаться.
Когда истёк срок действия водительских прав моего брата, я решил обновить их. Госслужащий даже не взглянул на старое фото. Меня автоматически отправили в очередь на фотографирование и сдачу отпечатков пальцев. Когда новая пластиковая карточка пришла мне на почту, я стал владельцем документа, на котором было имя брата и моё изображение. Мне искренне казалось, что во всём этом нет ничего плохого. Кража персональных данных покойного брата представлялась мне преступлением, в котором нет пострадавших.
Тем временем состояние моего здоровья тоже стало ухудшаться: у меня уже был СПИД, и, как это часто бывает в таких случаях, я заболел пневмонией. Работать на полной ставке я уже не мог. Мне пришлось получить инвалидность и попросить денег у мамы.
Я готовился к худшему, и прежде чем оказаться на смертном одре, я хотел успеть ещё немного насладиться жизнью. Я стал путешествовать. Я проехал всю Америку и Канаду, дважды летал в Европу. Мне хотелось забыться. Я постоянно зависал в барах и однажды попробовал метамфетамин.
Я продолжал подрабатывать бартендером время от времени, но при моём образе жизни этого был явно недостаточно, чтобы продолжать исправно выплачивать мои собственные долги. Тогда я начал пользоваться кредитками брата. Когда я исчерпал все лимиты, решил воспользовался страховыми выплатами — и получил чек на 100 тысяч долларов. В то время два человека с диагностированным заболеванием в терминальной стадии могли иметь один полис на двоих, и в самой этой операции ничего незаконного не было. Я словно одолжил денег у покойного брата, а потом их отдал. Более того, я закрыл почти все его кредитки. Одну всё-таки решил оставить, на всякий случай.
Всё это происходило в течение первых 18 месяцев после смерти брата. За это же время от СПИДа умерли шесть наших общих близких друзей. Я был уверен, что стану седьмым. Постепенно метамфетамин стал единственным, что было способно отвлечь меня от мыслей о смерти. Я стал употреблять наркотики ежедневно.
Не поймите меня неправильно: наркоманом, неспособным к функционированию в социуме, я никогда не был. Когда появились новые медикаменты для ВИЧ-инфицированных, я перестал жить одним днём и попробовал вернуться к нормальной жизни. Я начал работать помощником главного редактора крупного ЛГБТ-журнала и существенно сократил употребление метамфетамина. В профессиональном плане это была работа мечты, и я изо всех сил держался за неё. Впрочем, как и любая другая работа мечты, моя не приносила существенного дохода, и это было понятно с самого начала. Так я занялся новыми махинациями с документами: заключил рабочий контакт на имя брата, но продолжал получать выплаты по инвалидности на своё имя.
Я также работал над одним киносценарием. Я очень рассчитывал на этот гонорар и стремился попасть в мир кино, но когда закончил писать этот сценарий, режиссёр фильма умер от рака лёгких. Потом назначили другого режиссёра. Но вскоре и тот умер — от СПИДа. Больше мой сценарий никому не был интересен.
Потом была продажа ЛГБТ-журнала, в котором я работал. Новые владельцы перенесли все офисы из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, и так я лишился вообще какой-либо работы. Я был абсолютно раздавлен. Когда, вдобавок ко всему этому, мой бойфренд попал в тюрьму, я в буквальном смысле слетел с катушек. Теперь я не только употреблял метамфетамин, но ещё и продавал его.
Как и в любом другом малом бизнесе, тут действовали стандартные правила: работай над повышением лояльности клиентов, предлагай попробовать образцы продукции и гарантируй её качество. Я следовал этим правилам, и мой бизнес быстро развивался.
Полиции я не боялся — опасался лишь того, что кто-нибудь из моих родственников или близких друзей узнает, чем я занимаюсь, и отвернётся от меня. Поэтому я работал на опережение: прервал контакты с семьёй и прекратил общение с близкими друзьями. Вокруг меня становилось всё меньше и меньше людей, а список моих клиентов продолжал увеличиваться.
Через год один из них сказал мне: «У тебя осталось не более 18 месяцев в этом бизнесе. Начались рейды, каждый день кого-нибудь накрывают».
23 августа 2003 года копы вышибли дверь моей квартиры.
Вы думаете, что это драматическая развязка?! Нет, это ещё только начало.
Я понимаю, насколько странно это может звучать, но лично мне тюрьма помогла
Под арестом я провёл два дня, в тюрьме у меня отобрали все мои препараты для носителей СПИДа, и на суде по мере пресечения я откровенно неважно выглядел. В то время мой диагноз всё ещё рассматривался в правовом поле как смертный приговор, и это помогло моему адвокату добиться самого мягкого наказания: 300 часов исправительных работу, 2200 долларов штрафа и три года условного срока.
Я был готов выйти из бизнеса, даже перераспределил клиентов между своими сотрудниками. Вот только сотрудники с новыми обязанностями не справились, и очень скоро все мои старые клиенты вернулись ко мне.
Тогда я решил инсценировать собственную смерть. Я отсканировал подлинный сертификат о смерти брата и с помощью фотошопа вставил туда своё имя. Я поменял место и дату смерти. Я изготовил подходящую печать.
Я был очень внимателен к мелочам. Я оставил домашний телефон на автоответчиках похоронных контор. Я даже оплатил собственный некролог.
Затем я отправил письмо полицейскому, курирующему мой условный срок. Представившись Люком, я сообщил ему, что только что приехал из Сиэтла с похорон Марка, чтобы закончить его дела. От имени своего брата я писал о том, каким ударом стал для меня приговор, и просил сохранить его в тайне от «нашей бедной матери». «Нужно ли мне встречаться с вами лично или вы сможете отправить мне все необходимые документы по почте?» — таким вопросом я завершил это письмо.
Трюк сработал. Полицейский отправил «Люку» письмо с соболезнованиями от лица штата Калифорния, и моё уголовное дело было закрыто.
Наверное, человеку, только что инсценировавшему свою смерть, стоит переехать в другое место или хотя бы на другую улицу. Но у меня была хорошая двухкомнатная квартира в Западном Голливуде, за которую в 2004 году я платил всего 625 долларов, и я не хотел ничего менять.
Бизнес тоже продолжал развиваться, и три месяца спустя я снова услышал громкий стук в дверь. На этот раз я поспешил открыть копам, прежде чем они её выломают.
Когда я встретился с полицейским, курировавшим мой условный срок, он был поражён. «За все годы своей работы я ничего подобного не видел! — воскликнул он, и, пожав мне руку, продолжил: — Я рад, что в итоге ты оказался жив. Ты чем-то нравишься мне. Правда, теперь тебя придётся отправить за решётку».
Мне дали шестнадцать месяцев, но ровно девять с половиной месяцев спустя я вышел по УДО.
Ничего хорошего в реальном сроке, конечно, нет. Но тюрьма была далеко не худшим, что случилось со мной в жизни. Я бы отсидел десять таких сроков, если бы это могло вернуть моего брата.
Мой статус ВИЧ-инфицированного гея парадоксальным образом давал мне особые права. Уровень гомофобии в тюрьмах тогда был очень высок, а по поводу ВИЧ и СПИДа тогда было много предрассудков. Всё это привело к тому, что первые два месяца со мной вообще никто не вступал в контакт: все просто боялись. Но потом общение стало налаживаться. Я относился ко всем с одинаковым уважением и со всеми был честен. Я даже завёл друзей. Я отказывался ввязываться в конфликты на расовой почве с другими заключёнными. Я открыто выступал против насилия. И то и другое при любых иных обстоятельствах было бы сигналом к тому, чтобы меня избили. Но вместо этого под конец срока я был едва ли не тюремной суперзвездой.
Я понимаю, насколько странно это может звучать, но лично мне тюрьма помогла. Она вернула мне связь с реальностью. Я получал необходимый медицинский уход. Я прекратил употреблять наркотики и снова стал общаться с матерью и сёстрами.
Тем не менее, после выхода из тюрьмы я понял, что это только начало возвращения к нормальной жизни. Несколько лет спустя я смог придумать название всему тому, что я ощущал. Я называю это дезориентацией выжившего. Когда слишком много лет ты готовишься к катастрофе, то отвыкаешь мыслить в категориях нормальной жизни. Мне пришло потратить на это ещё несколько лет. В конце концов я решил написать книгу о своей жизни, и совсем недавно она была опубликована. Если бы что-то в моей жизни было иначе, вряд ли я стал бы писателем.
Я очень хотела дожить до совершеннолетия cына
Нэнси Дункан, 60 лет

Я родилась и выросла в Нью-Йорке и до сих пор живу здесь. Себя я считаю экстравертом: люблю проводить время с друзьями и играть в покер. Но иногда я не против побыть в одиночестве. Люблю кино, книги и прогулки на свежем воздухе.
ВИЧ у меня обнаружили в октябре 1990 года. Меня госпитализировали с пневмонией и в больнице сделали тест. Позже я поняла, что когда за пять лет до этого по весне у меня было что-то вроде сезонного гриппа после незащищённого полового акта, это и был момент, когда мой ВИЧ-статус изменился с отрицательного на положительный. Тогда было принято считать, что это заболевание распространяется исключительно в мужском гей-сообществе, и у женщин даже не требовали, чтобы они регулярно сдавали анализы на ВИЧ.
В начале 1990-х мой диагноз приравнивался к смертному приговору, и моей первой реакцией был страх, смешанный с чувством стыда. Я была растеряна, не знала, что делать. Мне повезло, что в момент получения анализов со мной была моя мама. В течение многих лет она оставалась моей главной поддержкой. Она никогда не осуждала меня, хотя я уверена, что и для неё всё это было очень сложным испытанием. Мои друзья тоже поддерживали меня. Никто не задавал ненужных вопросов, никто от меня не отвернулся.
Своему сыну я решила до поры до времени ничего не говорить. Тогда ему было только десять, и я боялась, что эта новость может его сильно травмировать. Я просто не могла заставить себя сказать ему, что у меня, его матери, нашли в крови этот ужасный вирус, который с большой долей вероятности меня вскоре убьёт. Но у меня постоянно возникали проблемы со здоровьем, и несколько лет спустя сын сам спросил меня, в чём же дело, и я поняла, что уже больше нельзя молчать. Узнав о моём диагнозе, сын заплакал. Он задавал мне бесконечные вопросы, и на большинство из них я сама не знала ответа. Он очень боялся, что я могу скоро умереть. Честно говоря, этот разговор с сыном — едва ли не самое сложное, что мне приходилось делать в жизни.
Мне было всего 33 года, когда я узнала, что у меня ВИЧ. У меня не было романтических отношений, и мне не хотелось их заводить. Мне казалось, что ни один партнёр не сможет принять мой диагноз, и я не хотела подвергать себя дополнительному риску быть отверженной.
Моя самооценка упала до предельно низкого уровня. Несмотря на всю поддержку со стороны близких и друзей, я продолжала сама себя терзать. Я делала это с куда большей исступлённостью, чем мог бы это делать кто угодно извне.
В начале 1990-х я работала почтальоном. Я цеплялась за эту работу, чтобы продолжать нормальное существование, однако уже через несколько лет после того, как мне поставили диагноз, я больше уже физически не могла справляться со своими обязанностями. Тогда я получила инвалидность.
Моя дневная активность ограничивалась тем, что я отводила ребёнка в школу и забирала его домой, когда не болела. Мой сын был моей главной мотивацией продолжать бороться за жизнь. Я очень хотела дожить до его совершеннолетия.
Я понятия не имела, как со всем этим справиться. Не только я, но и весь мир тогда мало что знал о вирусе иммунодефицита человека. Интернета еще не было, и я ходила в библиотеку, чтобы узнать больше о своём состоянии. Существовавшие лекарства были токсичны и имели многочисленные побочные эффекты, а зачастую и вовсе не помогали. Я просто решила придерживаться здорового образа жизни. Но каждый раз, когда я заболевала, почти физически ощущала, как смерть витает над моей головой.
Мне было очень тяжело. У меня была сильная потребность поговорить с кем-то другим, кто оказался в похожей ситуации, но я не знала ни одного человека с диагнозом ВИЧ или СПИД. Через некоторое время я нашла группу поддержки для ВИЧ-положительных людей. Я узнала, что у всех у них такие же страхи, как и у меня, но со временем они научились со всем этим справляться. Наши разговоры стали источником вдохновения для меня. У меня завязались дружеские отношения с участниками этой группы поддержки, и мне было невыносимо больно видеть, как они умирали от осложнений, вызванных СПИДом. Я всё время думала о том, насколько это ужасная смерть, и задавалась вопросом, как скоро это произойдёт со мной.
Прежде чем появились новые, куда более эффективные препараты, у меня диагностировали СПИД. В 1996 году у меня также обнаружили рак лимфомы. Я думала, что теперь точно умру. После шести месяцев химиотерапии я с трудом могла самостоятельно функционировать. Моя мама уже задумывалась над тем, чтобы перевести меня в хоспис.
Мне повезло: я смогла пережить те несколько лет, которые отделяли моё поколение ВИЧ-инфицированных от изобретения более прогрессивных медикаментов.
Несмотря на новые способы терапии, я так и не смогла вернуться к полноценной работе. Тем не менее, с 1998 года я выступаю с публичными лекциями о том, что такое ВИЧ и СПИД. Это вызывает большой отклик у аудитории, люди начинают делиться своими историями, и я понимаю, что занимаюсь правильными вещами. Я также работаю представителем федеральной программы по доступному планированию семьи. Мы рассказываем о болезни и ездим по улицам с фургоном, в котором бесплатно можно сдать анализы. Особое вниманием мы обращаем на ситуацию в институтах и тюрьмах.
Я испытываю огромное удовлетворение от осознания, что теперь я — часть того решения, которое позволит победить эпидемию ВИЧ. Прежде всего для этого нужно просвещать людей. Нужно рассказывать им о том, что всего один незащищённый половой акт может привести к инфицированию. Многие просто не знают, что они находятся в группе риска, потому что на самом деле в группе риска — все.
Важно также преодолевать стигматизацию этого заболевания. Медицина уже сделала многое для этого: если у ВИЧ-положительного человека, принимающего новые препараты, на протяжении полугода отрицательные анализы, это значит, что он не может передать вирус.
Мне хочется сказать тем, кому только недавно поставили диагноз, что теперь это больше не приговор. Большинство из вас сможет вернуться на работу, завести романтические отношения и даже иметь детей. Вы сможете жить нормальной жизнью, если будете четко следовать рекомендациям врачей, откажетесь от сигарет и не будете употреблять наркотики.
Привыкнуть к диагнозу ВИЧ/СПИД нельзя, но его можно принять. И я научилась этому. Спустя чуть менее трёх десятилетия после того, как мне поставили этот диагноз, с психологической точки зрения я чувствую себя намного комфортней. Я больше не испытываю стыда. У меня есть любимый мужчина, с которым мы уже много лет вместе. У него нет ВИЧ. Моему сыну сейчас 37 лет, и я благодарна Богу за то, что я до сих пор здесь. Я рассказываю свою историю в надежде, что она кому-нибудь тоже поможет.
Я так и не сумела привыкнуть к своему диагнозу
Шери Льюс, 63 года

Я идентифицирую себя как гетеросексуальную еврейскую женщину. Я певица и публицист. С положительным ВИЧ-статусом я живу на протяжении последних тридцати двух лет.
Когда мне поставили диагноз, я чувствовала себя абсолютно здоровой. Я жила в Нью-Йорке и работала в шоу-бизнесе, но уже была готова остепениться, выйти замуж и завести детей. Сдавать анализы я пришла за три месяца до свадьбы. Результаты стали для меня настоящим шоком. Доктор произнёс: «Маловероятно, что за то время, которое у тебя осталось, будет придумано эффективное лекарство. Мне очень жаль».
Тогда, в конце 1980-х, в Нью-Йорке была эпидемия ВИЧ, и я знала, что одна моя подруга умерла от СПИДа, хотя её родственники предпочитали называть официальной причиной смерти рак, опасаясь общественного порицания. Оно было настолько сильно в те годы, что люди изо всех сил старались скрывать свой диагноз, чтобы не потерять работу и не лишиться привычного круга общения.
Я не хотела пугать своих родителей, которые ничего толком не знали про ВИЧ. Я сказала им: «Да, у меня положительные анализы, но не нужно всё это раздувать. Я в порядке». Больше ни с кем я особенно не обсуждала свой диагноз.
ВИЧ-инфекция перевернула мою жизнь. Она отняла у меня карьеру мечты и разрушила отношения с мужем. После него я встречалась с другим ВИЧ-положительным мужчиной, но в то время медицина не позволяла мне родить здорового ребенка, а усыновление с таким диагнозом было невозможно. В итоге я не смогла завести детей, которых так хотела. Всё это очень травмирующий опыт.
Никаких специализированных консультантов для ВИЧ-положительных людей тогда не существовало. Я могла бы забыться с помощью алкоголя и наркотиков, но вместо этого стала посещать группу поддержки для зависимых людей. Там я получила безусловную поддержку, в которой так нуждалась. Благодаря этим людям я и осталась жива.
Мне кажется, с течением времени мои родители стали догадываться о том, что такое ВИЧ и чем это мне грозит. Мы никогда подробно не обсуждали эту тему, но когда несколько лет спустя мой отец умирал (ему было всего 65 лет), он сказал: «Я тебя умоляю, только не заболей, пожалуйста. Но если это произойдёт, рядом со мной на кладбище пустая могила, и я хочу, чтобы ты знала, что она — для тебя». Мама, впрочем, предпочитала оставаться во тьме неведения. Она никогда не встречалась с моими врачами, никогда не спрашивала меня о терапии. Она, в общем-то, до сих пор этого не делает.
Я так и не сумела привыкнуть к своему диагнозу — всегда просто старалась быть максимально занятой. Вместо того чтобы постоянно думать о том, когда же я потеряю зрение, заболею раком и когда у меня начнется деменция, я решила помогать таким же людям, как я.
ВИЧ-инфекция перевернула мою жизнь. Она отняла у меня карьеру мечты и разрушила отношения с мужем
Я переехала в Бостон и получила грант от Гарвардского университета на исследование, связанное с ВИЧ/СПИДом. Тогда же я впервые стала выступать в институтах с публичными лекциями. Знаете, мне повезло. Публика в Бостоне очень образованная и жадная до знаний. Слушатели активно впитывали новую информацию без каких-либо признаков осуждения.
Я стала консультантом для ВИЧ-положительных людей. Я слишком хорошо помнила, в какой форме об этом диагнозе сообщил мне мой доктор, и стала тем человеком, который рассказывает о положительных результатах анализов иначе. Мне хочется верить, что у меня неплохо получается, что люди смотрят на меня и думают: «Кажется, эта дамочка неплохо сохранилась. Может, и у меня есть шанс?».
Сейчас я веду свой подкаст и пишу в журналы для ВИЧ-положительных людей. Скоро у меня намечается постановка нового автобиографического кабаре-шоу, в котором я буду петь. Я очень жду премьеры. Мне нравится, что эта постановка, с одной стороны, удовлетворяет мою потребность в творчестве, а с другой — является способом донести до широкой публики то, что я хочу сказать: «Отчаиваться не надо!»
Здесь, в Америке, мы почти перестали использовать слово «СПИД», потому что СПИД — это последствие ВИЧ, а современная терапия позволяет его предотвратить, и это хорошая новость. С другой стороны, у меня складывается впечатление, что большинство чиновников и обычных американцев просто перестали об этом думать. Когда в конце 1980-х такие люди, как я, впервые публично заговорили о ВИЧ/СПИДе, это было новостью, и все это обсуждали, а теперь тема как будто исчезла из повестки.
То, что происходит сейчас в России, похоже на то, что происходило в США перед тем, как мне поставили диагноз. Государство находится на стадии отрицании проблемы, но это — не решение. К сожалению, в результате такого подхода многие люди думают, что им ВИЧ не грозит. Знаете, сначала было принято думать, что заразиться этим могут только наркоманы. Потом стали говорить, что это болезнь исключительно мужского гей-сообщества. На самом деле всё не так. ВИЧ не интересует, русский вы или американец, богатый или бедный, гетеросекуальны вы или нет. ВИЧ — это болезнь, перед которой все равны.