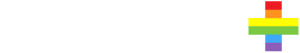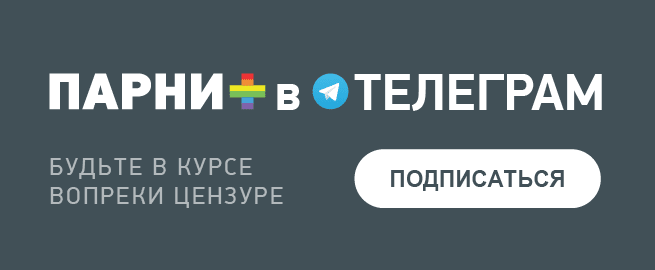В интервью музыкальному критику Екатерине Бабуриной Сакс рассказывает, как публика и сам коллектив Большого театра понимают и принимают оперу с гомосексуальной подоплекой, какую роль на сцене играет сексуальность, как проходила премьера оперы «Харви Милк» и кто из оперных персонажей гомосексуален.
В ноябре 2016 Большой театр поставил на своей Новой сцене оперу «Билли Бадд». Написанная в 1951 году опера давно стала признанной классикой репертуара, но театральная общественность удивилась не тому, что Большой догоняет Европу так поздно. А тому, что в эпоху забивания скреп в консервативном московском театре может появиться опера, конфликт которой строится вокруг гомосексуального любовного треугольника.
Композитор «Билли Бадда» британец Бенджамин Бриттен был гомосексуалом. Для своей оперы он выбрал одноименную повесть Германа Мелвилла, автора «Моби Дика». Эпоха наполеоновских войн; начальник полиции британского военного корабля Джон Клэггарт положил глаз на нового матроса Билли Бадда, но не хочет и не может потакать своему желанию. Он интригует, чтобы подвести Билли под смертный приговор, но гибнет сам. Капитан Вир, который тоже неравнодушен к Билли, все равно вынужден его казнить. Режиссер московской постановки Дэвид Олден говорит: «Это история о любви, которая должна быть подавлена и уничтожена». Но сайт Большого театра настаивает, что она «исследует такой мощный механизм социального поведения, как зависть».
В Москве роль Клэггарта исполняет Гидон Сакс. Он родился в Израиле в семье эмигрантов из СССР, вырос в Южной Африке, учился в Британии, Канаде и Швейцарии, пел по всему миру. Поклонники бондианы видели фрагменты оперы «Тоска» с его участием в фильме «Квант милосердия» (2008). В Россию он в первый раз приехал ради «Билли Бадда» в Большом.
Оперный театр позволяет Гидону Саксу совмещать певческий дар с талантом актера: все, что он делает на сцене, он делает бесстрашно и самозабвенно. В низком голосе (он бас-баритон) – богатейшая палитра эмоций. Узнав, что интервью будет опубликовано на ЛГБТ-ресурсе, он попросил упомянуть, что сейчас у него нет бойфренда. Парни, ловите момент!

Гидон Сакс – Джон Клэггарт, Юрий Самойлов – Билли Бадд. Сцена из спектакля Большого театра, 2016 (с) Дамир Юсупов/Большой театр
Клэггарт – необычный персонаж, и не только потому что гей.
У меня с этой ролью очень личные взаимоотношения. Впервые я пел Клэггарта в 31 год, а сейчас мне 57, и у меня такое ощущение, что эта роль всегда была частью моей жизни. Чем дальше, тем лучше я понимаю Клэггарта и, как ни удивительно, тем больше его люблю. После вчерашнего спектакля я подписывал зрительнице программку, и она сказала: «Ух, какой злодей». То есть она совсем не поняла, что это за персонаж. Я вижу в нем не злодея, а обычного человека, который совершает зло из-за боли, разочарования, а самое главное – из страха. Капитан Вир точно такой же: его жизнью управляет страх. Оба героя вынуждены молчать о своих чувствах. Они находятся в опасной политической ситуации, в конфликтной среде. Поэтому особенно интересно петь эту партию здесь, в России.

Джон Дашак – капитан Вир, Гидон Сакс – Джон Клэггарт, Юрий Самойлов – Билли Бадд. Сцена из спектакля Большого театра, 2016 (с) Дамир Юсупов/Большой театр
До того, как попасть в Москву, постановка Дэвида Олдена шла в Лондоне, а потом в Берлине. Версия Большого театра отличается от берлинской.
Мы изменили один фрагмент – убрали сцену, где Клэггарт насилует Новичка. Не могу сказать, что мне ее не хватает. В лондонской версии постановки ее не было. Режиссер Дэвид Олден добавил ее в Берлине только потому, что там на сцене есть суфлерская будка, и он хотел ее задействовать. И потому, что хотел, чтобы мне было сложнее. Хорошо, подумал я, посмотрим, к чему это приведет. Но никто не придал этому значения. Хотя обычно изнасилование на сцене вызывает дискуссии, потому что это злободневная проблема, а в случае с двумя мужчинами – еще и вопрос отношения к ЛГБТ.

Гидон Сакс – Джон Клэггарт, Томас Блондель – Новичок. Сцена из спектакля Дойче Опер, Берлин, 2014 (c) Marcus Lieberenz
Вам понравилось работать в Большом театре?
Меня удивило, что в театре хромает организация. Хор и рабочие сцены вели себя удручающе неуважительно: позволяли себе разговаривать в полный голос во время спектакля. Толпа мужчин – это всегда проблема, а в нашей постановке еще и получилось так, что толпой мужчин руководила постановочная команда, состоящая из женщин. А ведь какая, казалось бы, разница, если это талантливые профессионалы. Но когда я стал высказывать свое недовольство ситуацией с дисциплиной, ко мне стали относиться как к почетной женщине: с таким же пренебрежением.
Это часть наших традиционных ценностей.
Я убежден, что театр может и должен менять такое положение вещей. Где, как не в театре, человека следует судить по его таланту, а не по половой принадлежности или сексуальной ориентации.
В Большом, мне кажется, не все до сих пор понимают, о чем опера «Билли Бадд». Под конец премьерных показов ко мне подошел один из реквизиторов со словами (мы общаемся по-немецки): «Гидон, мне тут сказали, что в этой опере мужчины любят друг друга». – «Да», – ответил я. – «Ты это знал?» – спросил он. – «Да, мой персонаж и любит другого мужчину». Он потерял дар речи, но и я был в шоке. Этот человек сидел на каждой репетиции, так что же он видел в спектакле?
Хотя это, по сути, не важно. Он проникался действием и получал эмоциональный опыт, просто этот опыт не имел отношения к ни к чувственности, ни к сексуальности. Опера ведь тоже не о них, хотя сюжетный конфликт основан на любви и влечении.
Официальный комментарий театра – что это опера о зависти.
Я колебался: правильно ли я сделаю, согласившись петь в «Билли Бадде» в России? И все друзья сказали мне, что отказываться – неправильно. Я отдаю себе отчет, что смех, который я слышу порой из хора во время спектакля, связан с тем, что их смущает сюжет оперы. И, видимо, они понимают, что я идентифицирую себя с Клэггартом не только по-человечески, но и в силу ориентации. Должно быть, так проявляется желание пристыдить того, кто не вписывается в их понимание маскулинности. Я знал, на что иду, но все равно обидно. Впрочем, по крайней мере российские зрители приходят на «Билли Бадда» и, надеюсь, начинают лучше понимать самих себя, реагируя на то, что происходит на сцене.
В книге проблема Клэггарта состоит в том, что он слишком горд, чтобы совершить грех.
Как ни удивительно, многие и сейчас себя так ведут, хотя человечество уже изобрело автомобиль и самолет. Поэтому и важно исполнять «Билли Бадда». Но я не знаю, изменит ли что-то лепта, которую я вношу. Происходящее в опере и ее финал тоже внушают опасения, ведь ничего не стоит увидеть «Билли Бадда» в таком ключе, что, мол, поделом этим геям, пусть погибают, никакого уважения и понимания они не заслуживают.
Во всех операх Бенджамина Бриттена сквозит одна и та же тема: развращение невинности. Когда говорят о «Билли Бадде», обычно считают, что страдает невинность Билли, но на самом-то деле – Клэггарта и Вира. Вир приходит к признанию себя и живет с этим, а Клэггарта откровение о собственной сущности приводит к смерти. Зная слишком много о себе, человек может оказаться в опасности или стать опасен сам.

Гидон Сакс – Джон Клэггарт (с) Дамир Юсупов/Большой театр
Он станет опасен, зная, что уязвим?
В «Билли Бадде» есть сцена, где Клэггарт принуждает одного из матросов скомпрометировать Билли. После нее я иногда ухожу со сцены в слезах. Я прохожу мимо Билли, лежащего на полу, и твердо осознаю, что только что обязал себя уничтожить то, что мне дороже всего на свете. Как можно отнестись к этому отстранено? Поэтому мне и важно, чтобы зрители понимали, что Клэггарт любит другого человека. Что он вообще способен любить. В вашей культуре это особенно важно.
В нашей культуре такую любовь нельзя себе позволить. Точно так же Клэггарт не позволяет себе любить.
Интересно, насколько хорошо это читается. Это ведь хоть и искаженная, но в самом деле любовь, неотделимая от влечения. И нужно хорошо представлять себе Билли: что в нем такого, что вызывает любовь Клэггарта? Чистота, открытость, щедрость. Юрий Самойлов в этом плане потрясающий сценический партнер: он улыбается каждый раз, когда я на него смотрю. Сколько я ни играл Клэггарта раньше, я никогда не улыбался Билли, а в этой постановке – все время! И вот мы обменялись улыбками, и кажется, что этого теперь хватит на целый час, на день, на год. Но Билли хочет чего-то большего, хотя и сам не знает, чего. Он как тринадцатилетняя девочка, которая мечтает о знаменитом рок-певце. И улыбается он как будто бы с пониманием: мол, мы же с тобой знаем, что это за улыбки.
Наше с Юрием взаимодействие на сцене так удачно потому, что интерес его Билли к Клэггарту – только кажущийся. Не думаю, что Билли может испытывать к Клэггарту хоть какое-то влечение. Он вообще асексуал – он ангел. Поэтому Клэггарта и тянет рассуждать о нем в категориях света и тьмы.
Но Билли же поет о женщинах.
Он это делает в силу возраста и в силу того, что так поступают все. Но его единственное желание, мне кажется – это быть хорошим, быть полезным, нравиться другим. Он не такой, как нормальные люди. Он наивен – говорит: «Прощайте, “Права человека”», – и не понимает, что в этих словах не так. Наивность и неискушенность для него ключевые качества. Я как-то работал с Билли, который вел себя как какой-нибудь персонаж Ноэля Кауарда. А еще один Билли на каждый мой взгляд отвечал таким взглядом, что я только и думал: не может Билли быть таким опытным, нет. Он должен быть по-настоящему невинным, в этом вся красота истории.
Не знаю, считывает ли зритель конфликт между капитаном Виром и Билли, он ведь спрятан куда глубже. Но для меня любовный треугольник налицо. Вир в смятении, Вир испуган, Вир обрекает Билли на смерть – точно так же, как Клэггарт, он уничтожает то, что ему дорого. Он должен уничтожить Билли, потому что не может открыть миру, кто он такой, кого он любит и чего хочет.
Эта опера поразительна, особенно учитывая, в какое время она была создана. Повесть, по которой она написана, тоже поразительна. И любопытно, что Бриттен написал для Питера Пирса, своего спутника жизни, роль Вира, а не Билли. Бриттен очень хорошо понимал холодный ум Вира, его душевные терзания и стремление держать безопасную дистанцию. Но себя он безусловно ассоциировал с Клэггартом. В Клэггарте я чувствую ту тьму, которой Бриттен наполнял большинство созданных им героев.
Я режиссировал три разных постановки «Поворота винта» и всякий раз думал, что все персонажи должны выходить на сцену в образе Бенджамина Бриттена. Каждый из них – это какая-то грань его личности: его радость, его боль и (к чему я вел все это время) его стыд. Типичный стыд британца того времени. Но вы же не можете об этом писать, я полагаю?
Могу, но не для музыкального, а для квир-издания.
Потрясающе. В России есть квир-пресса? Одно время даже журнал издавался, но теперь вся пресса только в сети.
И существует там подпольно? Потому что так безопаснее? После одного из премьерных показов «Билли Бадда» мне вручили красивый букет с запиской. Там было написано по-английски: «Спасибо, что поете о таком среди молчания». Я сперва не понял, о чем это, но потом наш дирижер Уильям Лейси разглядел на открытке кайму из шести цветов радуги. Теперь я всюду ношу ее с собой и всем показываю. Она мне очень дорога. Но это единственный знак признательности за все время выступлений.
Еще мне очень странно: на сцене и в коридорах театра я часто ловлю на себе взгляды, но стоит мне посмотреть в ответ, как люди отворачиваются. Я знаю, что кто-то меня принимает таким, какой я есть, кто-то нет, а кое-кто относится враждебно. Полагаю, я должен радоваться, что эта враждебность проявляется только в том, как они со мной держатся. Не знаю, что обо мне говорят за спиной, но это и не важно. Вот только эти же люди хотят со мной разговаривать о постановке и о том, что для них значит участие в ней.
Потрясает уже сам факт, что здешние зрители аплодируют «Билли Бадду» стоя. Не знаю, почему – то ли им так нравится музыка, то ли голоса. Хотелось бы знать, что ЛГБТ-зрители в зале тоже есть.
Я пел в разных ЛГБТ-постановках. В 1995 году я участвовал в премьере оперы «Харви Милк» в Хьюстоне. Мы всем составом, включая композитора и либреттиста, ходили в бары и другие заведения и там вели публичные беседы об этой опере. Удивительно, как мало людей знали, кто такой Харви Милк, хотя с момента его убийства не прошло и двадцати лет. Еще после каждого спектакля мы отвечали на вопросы публики, и это будоражило умы Люди обсуждали события, произошедшие в сообществе, к которому они принадлежат, и изменившие мир – от этой мысли дух захватывало. Мы исполняли оперу и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско – причем в годовщину убийства Милка. В тот день в городе проходил марш в память Милка, и три тысячи его участников пришли в театр смотреть, как мы рассказываем их историю. Сама опера замечательная: одновременно душевная, забавная и едкая. Ее ставил Кристофер Олден, брат-близнец Дэвида. Я пел партию мэра Сан-Франциско Джорджа Москоне, которого застрелили вместе с Милком. Я не знал, что сын Москоне присутствует в зале и смотрит, как на сцене разыгрывается убийство его отца. Меня убивают первым, потом стреляют в Харви, и публика реагировала криками. Это был невероятный момент. Мне важен этот опыт: он напоминает, что на мне лежит ответственность перед не знакомыми мне и не всегда приятными мне людьми.
Я не испытываю большой симпатии к ЛГБТ-сообществу. Мне не нравятся вечные скандалы и культ молодости и красоты. Лично мне и не приходится особенно бороться за свои права: у меня хватает преимуществ как у белого мужчины. Но поэтому «Билли Бадд» имеет такое больше значение, и Россия, пожалуй, самое важное место, где я его пел.

Гидон Сакс – мэр Джордж Москоне. Сцена из оперы “Харви Милк”, 1995 (с) Carol Rosegg
Вот мы и пытаемся рассказать о нем людям. Критики все как один похвалили спектакль, но старались не упоминать, о чем опера.
Но, как я представляю, в любой стране большинство музыкальных критиков сами относятся к ЛГБТ.
Возможно, в России тоже так и есть, но мы не можем это открыто обсуждать. Работает принцип «не спрашивай – не говори».
Даже в том обществе, где я здесь вращаюсь, ходят слухи о том, что геи есть и в самом Кремле, и я допускаю, что это во многом правда. А заговор молчания – самое опасное, что может быть.
Мне повезло: я никогда не жил в среде, где моя ориентация не была бы как минимум приемлема. Сейчас поселился в Берлине, и мне до сих пор удивительно видеть, как однополые пары ходят, держать за руки. Нигде больше я такого не встречаю, и замечательно, что там это воспринимается как должное. Люблю Берлин: этот город все принимает и позволяет тебе быть собой, ни перед кем не оправдываясь. Надо было давным-давно сюда переехать.
В шестнадцать лет я поступал в актерское училище и читал в том числе монолог Бланш Дюбуа из «Трамвая “Желание”». Сейчас мне самому забавно, что тогда мне совсем не казалось, будто это необычный выбор. Приемная комиссия удивилась, но мое исполнение им понравилось. Это училище было одним из тех мест, где ЛГБТ не нужно добиваться равных прав – их сразу принимают как есть.
Насколько важна сексуальность на сцене? Опера ведь в основном рассказывает о гетеросексуальных отношениях.
Мне всегда необходимо знать, какой сексуальностью обладает мой персонаж. Когда я пел Фигаро и графа Альмавиву в «Свадьбе Фигаро», я воспринимал их как стопроцентных гетеросексуалов. Но Каспар в «Волшебном стрелке», дон Пицарро в «Фиделио» и Четыре злодея в «Сказках Гофмана» – для меня они все геи. Как и Клэггарт, они не в состоянии смириться с собственной сексуальностью и признать, что способны любить и любят. Естественно, я воспринимаю их так, потому что я сам гей, но я и с режиссерами это обсуждаю.
Дон Альфонсо в «Так поступают все женщины» тоже гей. Он хочет обоих главных героев – Гульельмо, пожалуй, чуть больше, чем Феррандо – и досадует на то, что женщины крутят ими как в голову взбредет. Он хочет доказать героиням, что мужчины важнее, чем они, что один из мужчин ему дороже, чем другой, и что в принципе каждый достоин его внимания. Так что я во всех постановках играю дона Альфонсо как гея, и это никогда не мешало спектаклю – обычно никто это отдельно и не упоминает.
Перевоплощение в гетеросексуальных персонажей меня завораживает – например, в главного героя оперы «Замок герцога Синяя Борода». Самая недавняя постановка, где я его играл, была в берлинской Комише Опер. Режиссировал Каликсто Бьейто, а Юдит играла потрясающая литовская певица Аушрине Стундите, на вид стопроцентная гетеросексуалка. Едва мы с ней входили в репетиционный зал и окунались в разрушительные отношения своих героев, все наше влечение концентрировалось друг на друге. Каликсто Биейто позволил нам импровизировать, и в процессе мы поменялись ролями: в середине действия я стал женщиной, а Аушрине – мужчиной. Я надел ее одежду, которая мне безнадежно мала. Она стала применять ко мне силу: таскала меня за волосы (у меня был хвост) и провоцировала, а я не скрывал, что мне страшно. В спектакле она с ненавистью избивает меня, я весь в крови, и она пишет этой кровью на зеркале. Но потом я перехватываю инициативу, и роли меняются обратно. Это просто невероятно: сперва мы почти избавляемся от гендера, потом восстанавливаем его. И мы не придумали это головой, а просто действовали инстинктивно. Финал до боли печален, и опять невозможно петь без слез, потому что я опять должен уничтожить то, что мне всего дороже, что я ненавижу и люблю. Я убиваю Юдит на сцене.

Есть DVD оперы «Тоска», в которой ваш герой, барон Скарпиа, воспринимается как бисексуал. Он вожделеет и героиню Флорию Тоску, и ее возлюбленного Марио Каварадосси. Так и было задумано?
Мне не кажется, что Скарпиа непременно бисексуал. Он просто чувственный человек: ему все хочется понюхать, потрогать, даже лизнуть, чтобы почувствовать вкус. Это такое естественное плотское любопытство. А вас чем-то смутило, что он не моносексуален?
Нет, мне всегда хотелось, чтобы кто-то сыграл его именно так. Он же наслаждается жизнью…
…И властью. Режиссер Филипп Химмельман требовал, чтобы мой барон был более сдержанным и злым. Но я сказал: «Так не пойдет. С чего мне быть злым? Я забавляюсь. Удача ведь все время на моей стороне». И я спрашивал режиссера, нельзя ли мне вести себя с Каварадосси более двусмысленно. Но гетеросексуалу Химмельману не понравилось, что я делаю на сцене, и на возобновление постановки он меня не позвал: мол, я некорректно передаю его замысел.
Но вы создали очень многомерного персонажа.
Потому что нельзя воспринимать людей как однозначно плохих, даже если это напрашивается, как в случае с бароном Скарпиа. Нужно видеть, насколько он игривый, остроумный, обаятельный. Нужно отдавать себе отчет, что он мог бы вести себя очень по-разному и просто выбирает один из возможных путей. Он порочен, но мне не кажется, что порочность и многогранность характера автоматически делают его плохим. Правда, иногда забавно просто изображать злодея как злодея.
Что до сексуальности на сцене… Год назад я ставил в Берлине оперу «Сказки Гофмана», и партию Четырех слуг в ней исполнял певец-трансгендер Холден Мадагейм (пост-оп, у него прооперирован верх). Он наполнил постановку невероятной энергией за счет того, что принимает свою жизнь целостно. Не говорит: «я теперь мужчина, зовите меня “он”», – а показывает: «вот так я живу, вот что я делаю, вот через что я прошел». И всю свою смелость и творческий потенциал он принес на сцену. В его партии сплелись злорадство и хрупкость. В конце его убивают. Мы это согласовали, потому что он хотел, чтобы у его персонажей был свой большой драматический сюжет. Я никогда прежде не работал с певцами-трансгендерами, так что узнал очень много нового. И учиться у Холдена было очень просто, потому что он был абсолютно открытым, ни в чем не оправдывался и не вставал в позу «только не спрашивайте меня о прошлом» или «об операции я говорить не буду».
Еще я знаком с певицей-трансгендером. Это бас-баритон Лючия Лукас. Она оперировала только низ. Лючия состоит в браке с женщиной и идентифицирует себя как лесбиянка. Она совершила переход, будучи в составе труппы оперного театра Карлсруэ.
Они проходили гормонально-заместительную терапию?
Да, и Холдену непросто, потому что после приема тестостерона его голос пару дней ведет себя непредсказуемо. У Лючии с эстрогеном было еще больше проблем, хотя она как была, так и осталась бас-баритоном – а Холден из меццо-сопрано стал тенором. Поразительно, как изменился Холден в процессе перехода. Когда я впервые его увидел, он походил на шестнадцатилетнего подростка. А теперь у него растет борода, плечи стали шире, голос глубже, и от него исходит заразительное ощущение: ему очень комфортно быть собой. У него очень славная девушка, англичанка, строгая, как армейский сержант. Фантастика, как люди сами создают свою жизнь.
Я рассказываю эти истории, потому что постоянно возвращаюсь к российским реалиям. Не все понимают, насколько ценно иметь возможность быть собой открыто и без стыда. Те, кто не сталкивался с запретами, принимают свое положение как должное. Им следовало бы приехать сюда, чтобы понять, какое на самом деле это благо. И чтобы, возможно, что-нибудь изменить к лучшему.
Автор: Екатерина Бабурина