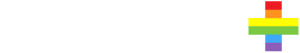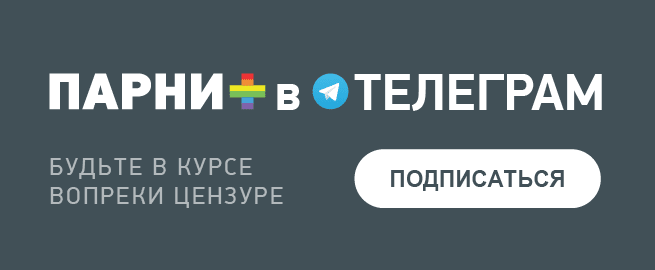Рассказываем истории русскоговорящих ЛГБТК-людей, эмигрировавших в другие страны
“Парни ПЛЮС” продолжают публиковать истории русскоговорящих ЛГБТК-людей, которые приняли решение эмигрировать в другие страны из-за войны и гомофобии. Интервью были взяты в рамках проекта «ИСХОДники».
Люба Камырина — открытая лесбиянка и известная журналистка, проживающая сейчас в Берлине. Она сделала хорошую карьеру на российском телевидении, но в 2017-ом году ей пришлось начинать всё сначала.
Новый старт был непростым. Но Люба справилась со всеми трудностями. В интервью она рассказывает о 90-ых, о первых лесби-вечеринках, о сложных отношениях, о свободе и безопасности. Почему Люба больше не может идти на компромиссы и как изменилась журналистика в нынешних реалиях — читайте ниже!
Для того, чтобы немного прийти в тонус задам вопрос без подтекста: ты патриот? Или патриотка, не знаю в каком ты отношении с феминитивами?
Я стараюсь переходить на феминитивы, потому что язык живой и он требует феминитивов. Женское управление нужно в языке, к этом необходимо привыкать, хотя порой странновато и тяжеловато.
Дело в том, что никакой патриоткой я никогда не была. Я, собственно, и не думала о себе в этой парадигме взаимоотношений человека и страны, где он родился-вырос. И только сейчас, став совладельцем вполне себе антивоенного, антикремлевского, если хотите, антипутинского ресурса (фонда, который зарегистрирован здесь в Германии, и YouTube-канала), я вдруг начала ощущать, как моя внутренняя патриотка вдруг очнулась.
Наш канал – русскоговорящий, правозащитный, он – о реальной борьбе за права тех, у кого их в нынешней России практически нет, включая абсолютно бесправных заключённых. Я сотрудничаю и общаюсь с антивоенными активистами, с адвокатами, которых преследуют, и вот так совершенно неожиданно для меня начал выкристаллизовываться совершенно конкретный патриотизм.
Он – про любовь к стране и какую-то что ли боль, про неравнодушие, в общем. И при этом – про неприятие, или чего уж там, нормальную такую ненависть к государственной структуре, системе. До этого у меня не было таких конструкций в голове, я была совершенно неосознанным в этом смысле человеком, за что себя виню. Раньше надо было начинать испытывать боль.
Расскажи, пожалуйста, о себе: представься, откуда родом, сколько лет?
Я Люба Камырина. Родилась в городе Калуга, 44 года назад. Летом ездили к папиной бабушке в Дербент. Я помню, как она, а звали ее Анна Ивановна Иванова, говорила: «Гуляй, только за седьмой магал не ходи». Ну, собственно, в том магале-районе была мечеть. И в общем, с «дружбой народов» уже тогда всё было ясно. А в конце восьмидесятых евреи, друзья семьи, говорили о погромах в Калуге и уезжали в Израиль. Это то, что я помню.
Сначала я училась в простецкой школе в рабочем районе, где была королевой бала со своими бесконечными пятёрками, и в какой-то момент мне стало страшно скучно. И мама сказала, что открывается гимназия, точнее как тогда было на перестроечной волне переделывают одну из школ в гимназию. Надо было пройти конкурс, чтобы в нее попасть, поэтому в классе все были отличники. Нас собрали со всего города, и последние 4 года я училась в этой гимназии имени Циолковского. В итоге у нас 10 золотых медалистов на класс было, среди которых была и я.
После школы в 1995 году я поступила в МГУ на журфак и жила в общежитии, в знаменитом ДАСе (студенческое общежитие Московского государственного университета — прим. ред.). Это был разгар чеченской кампании, и у нас на этаже жили чеченские семьи, и это был отдельный неприятный опыт. Потом я стала работать на радио в Москве, на нескольких радиостанциях, задержалась на радио Максимум. Моим начальником был всем известный сейчас по Дождю Миша Козырев. Я никогда не думала, что мы – я и он – окажемся здесь , а моей соседкой по общежитию и тоже коллегой по радио Максимум была Тутта Ларсен, которая оказалась в итоге по другую сторону нынешних путинских баррикад, и она сейчас совершенно такая православная ватница. Таня, прости, но это так.
С 2003 года я начала работать на телевидении в продакшене, и в одной продакшн-компании я проработала с 2003 до 2017, никуда не переходя и не меняя места работы. А в 2017 году я эмигрировала в Берлин.
Но тогда я не думала, что это эмиграция: я нашла в Берлине работу, ну и что? Я же вроде как по работе уехала. Я старалась слово «эмиграция» исключить из своих рассказов о себе, когда меня кто-то спрашивал, и вообще из своего сознания. Сознание его вытесняло само, видимо была такая своеобразная психологическая защита.
Мне проще было считать, что я в длительной зарубежной командировке, поскольку до этого я очень часто летала по всему миру в командировки от Канады и западного побережья США до востока России. Но в какой-то момент я себе сказала: “Все, детка, ты здесь живёшь”.
Любишь путешествовать?
Когда я поступила на журфак, на первом занятии нам сказали — напишите, почему вы хотите стать журналистом. Я помню, что я решила написать максимально честно, что я хочу быть журналистом, потому что я хочу бесплатно путешествовать. Ничего из серии «я хочу изменить мир к лучшему» там не было. Тогда вообще было такое время – оглушительной прямоты. 1995 год – время, когда я гордилась Россией. Я на тот момент даже не представляла, что сама могу поехать за границу.
Я – советский ребёнок из семьи, которая жила очень скромно. Тогда мы себе этого даже не представляли, у нас не было такой конструкции “путешествовать за рубеж”, даже в Болгарию. Поэтому для меня увидеть мир и совместить это с работой было круто!
Почему после школы решила уехать поступать на журфак?
После школы решить это было нельзя, нужно было решить заранее. Если поступать на журфак, нужно было уже поработать и иметь публикации. Я уже в 15 лет пошла работать на радио. Это была заря коммерческого вещания в России, еще полгода назад, например, никаких коммерческих радиостанций не было, было только госвещание, и вдруг в эфире появились нормальные голоса свободных людей.
На первую коммерческую радиостанцию в Калуге – МС-радио – набирали сотрудников, я попробовала. В итоге меня, 15-летнюю школьницу, почему-то взяли, и я вела еженедельную аналитическую программу.
А как ты 15 лет поняла, кем ты хочешь стать?
Тут несколько причин. Во-первых, я очень хотела уехать ехать из Калуги. Мне там было плохо.
Скучно?
Скучно – не то слово, оно слишком слабенькое. Мне там было дискомфортно, я там себя не видела дальше. Как будто ты в каком-то желе барахтаешься. Не в обиду калужанам. Это исключительно мое ощущение. Это какая-то интуитивная история была — я чувствовала, что мне надо вырваться, иначе я застряну там. Я сейчас с ужасом думаю о том, что было бы, если б я там осталась…
Девяностые – это было быстрое время. Тогда мои родители были вынуждены молниеносно принимать решения, и я вслед за ними тоже понимала, что нужно принимать решение быстро. И, конечно, хотелось в Москву, которую я видела по телевизору, какая там нереально офигенная яркая жизнь, что это совершенно какая-то другая планета.
Во-вторых, мне пришлось задуматься о том, а что же я люблю и умею, и хочу? Ок, я люблю читать, я люблю писать, я издавала в школе стенгазету, довольно жёсткую, с элементами сатиры. Такую на больших ватманских листах во всю стену мы ее фигачили, и она называлась “Ракета”. Я была главредом.
На радио мне было дико интересно, потому что – свободно. Я все время паслась на разных книжных развалах, находила там самиздатовские журнальчики тиражом 100 экземпляров, а потом шла в эфире и рассказывала о том, что только что прочитала и это никто это не мог нигде больше прочитать.
И плюс третий момент, на журфаке тогда было меньше всего профильных экзаменов, даже историю не надо было сдавать. Поэтому готовиться в общем и не требовалось. Нужно было сдать русский и литературу (написать сочинение и получить две оценки) и английский. А главным был творческий конкурс, куда нужно было принести свои публикации (расшифровки радиэфиров) и написать еще одно, творческое сочинение. Крайне комфортные экзамены.

Судя по твоим предыдущим интервью, у тебя была советская благополучная семья?
Она была антисоветская. А так, да, классическая семья. Благополучная в смысле социального среза: папа и мама – инженеры, бабушки – учительницы.
Папа разве у тебя не военный?
Нет. У меня папа служил в Афганистане в начале 80-х, но я почти ничего не знаю об этом. Сколько точно он там провел времени, я не знаю. Мы никогда с ним это не обсуждали. Он начал вообще об этом говорить незадолго до смерти, до инфаркта, который у него случился в 45 лет.
Папы не стало в 2003 году. Он мечтал быть офицером, потому что его дед был офицером, по-моему, полковником, и ещё рядом с Будённым скакал. Папа закончил МГТУ имени Баумана. После окончания пошёл служить, даже несмотря на то, что я уже родилась к тому времени.
Оказавшись уже в Афганистане по собственной воле, он что-то там увидел… Что-то такое, что разрушило окончательно его фантазии о «благородном русском офицерстве». Он вернулся и сказал: «Это всё – не моя армия. И зачем вообще мы ввели войска в Афганистан? Нас там никто не ждал».
После этого он работал инженером, он был талантливый компьютерщиком, запускал первые системы ЭВМ по всей стране.
Ты маме открылась в каком году? А папа был в курсе?
Маме открылась в 2003-ем году. Папа в курсе не был. У меня были с ним сложные отношения. Я с ним откровенно никогда не говорила, к сожалению. Не успела. У меня тогда появилась первая серьезная личная жизнь, я стала жить с женщиной, с Наташей.
Когда мы приехали с ней в Калугу, то мама сразу все поняла. Стала аккуратно расспрашивать. У меня с ней очень близкие тёплые дружеские отношения, и сейчас мы с мамой по-прежнему лучшие друзья. А папа, может быть, что-то и понял, но вопросов не задавал.
А с мамой он не мог это обсуждать?
Кстати, надо у мамы спросить, обсуждали ли они это вообще. Мне даже интересно стало, я спрошу у нее.
Когда ты осознала себя как лесбиянка?
В очень раннем возрасте я стала понимать, что мне нравятся девочки гораздо больше. Мальчики меня не притягивают. Я не понимаю мужской энергии, не чувствую, не резонирую с ней. Это сложно объяснить.
Да, они клёвые. Вроде как нужно, чтобы мальчик тебе таскал портфель, и один такой поклонник был у меня в школе в начальных классах. Он действительно носил мой портфель и ещё был второй. Они даже как-то спорили из-за меня. Но я за этим наблюдала, как орнитолог за птицами.
При этом я прекрасно понимала, что мне нравится смотреть, как ведут себя девочки, мне нравится ими любоваться. Но любоваться так сильно, что хотелось потрогать человека, – это всё пришло позже. Я была достаточно стыдливая, зажатая. Это советское воспитание. Телесного раскрепощения, конечно, не было.
А когда ты приняла свою ориентацию?
Здесь важна роль моей гимназии. У нас была учительница по литературе, которой на том момент было что-то около 25 лет. И она преподавала литературу как человек, которому, как и всем в то время, открылся весь этот дивный новый мир книг, ранее запрещённых, и которому можно было отходить в сторону от школьной программы.
Она мне жутко нравилась. Я в неё влюбилась и я скрывала это от всех, никто об этом не знал. Она организовала факультатив по зарубежной литературе, и одно из первых занятий было посвящено античной литературе, в частности, античной поэзии. Она нам читала стихи Сафо и рассказывала о том, что есть такой остров Лесбос, который существует «вот прямо сейчас» в Греции в Эгейском море.
Тогда в 12 лет я услышала это само слово, услышала про эту историю, что была такая поэтесса, которая любила женщин, посвящала женщинам стихи, и это нормально. Про это мне рассказывает учительница, которую я не просто уважаю, которую я боготворю, значит, все окей.
У меня этой ломки между осознанием и принятием себя не было. Я это приняла сразу как часть себя: я как эта древнегреческая знаменитость, со мной все нормально. Потом уже, когда я жила в общежитии, была естественная история, что у всех мальчики, вроде как надо попробовать отношения с мальчиком построить. И у меня был мальчик, с которым мы чуть не поженились, он очень этого хотел.
Мы с ним встречались года два, и он стал моим первым мужчиной. Но я прекрасно понимала, что этот мальчик ровно до тех пор, пока не появится девочка или женщина, в которую я влюблюсь настолько сильно, что уйду от него. Так и произошло.
В девяностые было на удивление открытое отношение ко всему другому, появилась свобода. Те, кто рос ещё в советское время, даже слов таких не знали в школе.
Да, а я ещё в эти девяностые попала в Москву. Я же ещё журналист, связанный с шоу-бизнесом, потому что я сразу стала работать в этой сфере, будучи фанатом русского рока и вообще разнообразной музыки. И вот, пожалуйста, меня приглашают в гей-клуб, а потом меня приглашают на лесбийскую вечеринку.
Причём это все открыто и свободно, никаких тебе Энтео (в прошлом православный активист, который считал гомосексуальность болезнью и называл «содомским грехом» — прим. ред.), и никаких тебе хоругвей, и никаких тебе «ремонтов» (в смысле, убийств гомосексуалов, «ремонтники» – гомофобы) и никаких этих страшных ужасов.
У меня был один старший друг – гей, я его очень уважала, он прекрасный журналист, профессионал, но я не буду называть фамилии. И была очень забавная история, которую он мне рассказывал. Взрослые геи его возраста собирались и ехали в казармы Московского военного округа, и знакомились там с молодыми военнослужащими.
Если кто-то из них хотел провести время с мужчинами из Москвы, то эти ребята приглашали тусоваться в гей-клубы. А там глядишь, что и больше нарисуется. И назывались такие мероприятия – «комитет солдатских матерей».
В общем, чего только не было!. А клуб «Хамелеон» — там во дворе памятник члену был огромный, и это, на секундочку, на Красной Пресне! Я и сама делала лесбийские вечеринки. Мы работали с клубом “Шанс”, его арт-директор Серёжа Пчела с нами работал, и мы делали женские вечеринки, которые были по пятницам — нам давали временной слот с 20:00 до 00:00, а потом мальчиков запускали. В клубе был аквариум и в нём плавали мужчины-стриптизёры, когда там проходили мужские вечеринки. А женщин никогда не было в этом аквариуме.
Помню, я пошла в клуб “Распутин”, который был самым крутым и дорогим стриптиз-клубом в Москве, познакомилась там с двумя девочками, предложила им каждой по 100 долларов и сказала, что они должны топлес плавать в этом бассейне. Правда, выяснилось, что бассейн рассчитан на компактных юношей, а девочки эти там помещались лишь по грудь. В общем, они бедные старались, как могли, но вечер тем не менее удался. Это было открытие вечеринки, и она просуществовала года полтора, по-моему. Мне тогда было 19-20 лет, и мы это делали и для того, чтобы заработать денег, и для такой социализации.
Я, как студент, параллельно мало могла зарабатывать, хотя уже сотрудничала с радиостанциями, но не так, чтобы постоянно, и я старалась не брать денег у родителей. Это была такая подработка. Да и среди своих клёво: у нас какие-то свои активности, от фэшн-показов до боксерских поединков, к нам приезжают девочки из питерского лгбт-коммьюнити, из каких-то других городов. У нас целая сеть появляется, и нам казалось, что все отлично, так и будем жить дальше.
Нашел твой старый сюжет для программы “Истории в деталях” про Арбенину, в котором были кадры Питера начала двухтысячных. Я смотрел на этих реально свободных молодых людей, которые как и мы были тогда двадцатилетние, и в голове мелькало, куда эта свобода делась?
Туда и делась. Я не хочу говорить «наша», но я могу сказать, что моя трусость тоже на это повлияла. Надо было это отстаивать, надо было это беречь, надо было как-то за это бороться, а я предпочла жить в своём этом пузыре.
Мне хорошо, поскольку я имею отношение к шоу-бизнесу, там “все такие” и, вроде как, я в своём мире. А что там происходит вокруг – неважно. В 2006-ом году была попытка гей-парада в Москве, когда там всех побили, в автозаках куда-то отвезли, посадили в УВД и прочее, – это всё проходило по касательной. Конечно, это отвратительно характеризует меня. Я серьезно. Сейчас я это понимаю.
Я тоже не ходил в 2007 году на гей-прайд в Москве, хотя жил там. Я не помню, по какой причине я не пошёл, но я не пошёл. Если б таких, как я, которые не пошли, в действительности пошли, а их было достаточно много, мне кажется, все и было бы по-другому. Это как история с лягушкой, которую варят медленно. У нас забирали свободу маленькими порциями, и мы с этим всегда мирились. А теперь вынуждены уезжать…
Расскажи про свои отношения. Сейчас ты в отношениях?
Сейчас я в отношениях сама с собой. Или нет. Пусть так: сейчас я не в отношениях… Хотя ладно, давай уж честно, может быть притянем что-то хорошее в эту жизнь. Год назад я получила одну открытку с днём рождения, сейчас я ее прочитаю.
“My dear Luba, we meet at time of war, but even if the situation is dark, terrible and painful, our encounter is colorful, warm and makes me happy. Thank you for every message, every single word, every thought, every feeling, every smile, every kiss, every touch”, — текст открытки.
Я познакомилась с немкой. И спустя очень долгое время внутренней пустоты я действительно поняла, что вот наконец я влюбилась и очень сильно. Вскоре после моего дня рождения и той открытки мы расстались, и это шарахнуло по мне просто каким-то адским молотом, выжгло все, я начала принимать антидепрессанты.
Естественно, это наложилось на войну и работу, которая связана с ней. Я за этот год очень сильно поменяла образ жизни, и сейчас вдруг всё стало возвращаться. Те отношения все-так не были окончены.
Сейчас я боюсь что-то спугнуть, поэтому я не хочу отвечать в отношениях я или нет. Надеюсь, что все-таки, да, в них. И то наше расставание было моей грандиозной ошибкой, потому что меня очень штормило, мне хотелось всего и сразу и, наверное, я где-то была не права. Все-таки в жизни бывают ситуации, если ты начинаешь прилично себя вести, то тебе дают возможность что-то поправить.
Надеюсь, что так и есть. До этого у тебя когда последний раз были отношения?
До встречи в Берлине у меня были отношения в 2014-16 годах.
Перед твоим отъездом?
Да. Это был сильный роман, но он закончился, и мы расстались не по моей воле. У меня была серия таких расставаний до встречи с этой прекрасной немецкой женщиной, которая по профессии кинолог. У немцев вообще две главные ценности — и это нифига не Kinder, Küche, Kirche — собаки и немецкий автопром. В общем, у меня было до встречи с ней два таких сильных расставания не по моей воле, и они меня подкосили. После первого из них я побрилась налысо.

Первое – это с Натальей, которую ты познакомила с мамой?
Нет, с Наташей мы расстались давно, ещё в 2004-ом году. Мы с ней прожили три года вместе. Потом у меня не было никаких отношений, были какие-то промежуточные романы, какие-то случайные встречи, их было крайне мало, потому что, я человек, нацеленный на серьёзное, чтобы на всю жизнь, и, наверное, многих это отпугивает.
Потом у меня были отношения чуть больше четырех лет с замечательной чудесной Оксаной. Она художник, живёт в России сейчас, к сожалению. Я бы очень хотела, чтобы она жила здесь где-то в Европе, потому что она абсолютно европейский, свободный по сути человек. В тот раз я ушла, что было страшно болезненно для неё, но так было нужно. И, видимо, я расплачиваюсь за тот уход и измену, но так вышло.
Сейчас же — вот это новое сильное чувство, которое появилось год назад в конце апреля 2022 года, и оно до сих пор со мной.
Как у тебя мама отнеслась к твоей ориентации?
Мама у меня человек ироничный и самоироничный. Она мне с детства говорила, что главное – это свобода воли, свобода личности. “Ты – личность, ты должна быть свободной. Ты должна выбирать то, что ты хочешь”. И, конечно, это сюжетообразующие для меня слова и, видимо, тяжкая ноша отчасти. Я поэтому не боялась ей сказать про Наташу, про первую женщину, с которой начала жить.
У мамы один из вопросов, который тогда возник, был – не виновата ли она в моей ориентации. Она легко очень восприняла, как-то даже с юмором сначала. Но несмотря на её образованность, несмотря на её ироничность, потом она стала думать, что, может быть, она как-то не так что-то сделала. И она честно это мне сказала, за что ей огромная благодарность и низкий поклон.
Я ей сказала, что как ты можешь быть в этом виновата, если ВОЗ признала, что гомосексуальность — это не болезнь, не проблема и не какие-то издержки воспитания, а генетечиская предрасположенность.
Дала ей тогда ссылочку на сайт, притащила книжку Дидро “Монахиня”, которую я читала в университете, когда училась, и у меня эта книжечка сохранилась и в ней очень откровенно написано про лесбийские отношения. И это Дидро, это французское просвещение, это конец 18 века, и там все уже рассказано до нас. И вполне высокохудожественно.
У неё периодически возникало такое, что может я передумаю, может все-таки что-то во мне изменится. Она не была против, просто она никогда не была в ЛГБТ-среде. Но я её знакомила с моими друзьями, в моём окружении было много гомосексуалов, и были взрослые женщины-лесбиянки практически её возраста, и мама, просто посмотрев на это все, успокоилась. Да простит она меня за эту формулировку.
В данный момент моя ориентация для нас с ней точно не проблема, потому что мы с ней четыре года увидеться не можем, вот в чем у нас с ней сейчас проблема.

Мы учились, кстати, примерно в одно время, и нам на журфаке рассказывали, что есть две школы журналистики: московская и петербургская. Вам про это ничего не говорили?
Я училась в на кафедре телевидения и радиовещания, там, мне кажется, никакой школы и не было. Нам сразу сказали: “Идите в поля, идите пробуйте работайте, мы сами не понимаем, как развивается телевидение и радио сейчас”.
Это был 1995 год, только несколько лет как появилась реклама, коммерческие программы, никаких больше дикторов. Мы просто сразу ушли в поля, и у нас теории практически не было. Кстати, по поводу Булгакова. Я недавно писала статью про украинский нарратив в современном российском кино и сериалах, и перечитала “Белую гвардию”. Я поняла, что дураки те, кто говорит, что “Белая гвардия” – это антиукраинское произведение. Абсолютно ничего подобного!
Запомнилось, как хозяйка дома Елена Турбина-Тальбер произносит: “Все мы в крови повинны, но ты не карай”. Это главное. Мы все повинны в этой крови. Это к вопросу о том, что происходит сейчас.
Знаешь, так мы выйдем к вопросу о коллективной ответственности. Сказать, что никто не виноват или все виноваты, нельзя. Вопрос вины – это уже вопрос преступлений, которые надо устанавливать, но ответственность каждого за происходящее сейчас та или иная есть. Но не все ее готовы признать. Как с законом о гей-пропаганде. Если бы мы в 2006 или 2007 году выходили и требовали гей-прайд в Москве, может быть, и речи о законе о гей-пропаганде не было.
Мы ответственны за то, что не вышли, но могли бы мы что-то изменить тогда? Кто его знает.
Могли, конечно, если бы… Сейчас я начну “если бы” всякие приводить. Я – журналист, я вообще могла менять, я могла иначе рассказывать. Мои однокурсники возглавляют сейчас крупные федеральные каналы в России. Но они засунули свои языки себе в задницу, потому что они выбрали большие деньги.
Моя однокурсница Яна Чурикова, с которой мы дружили во время учёбы, ведёт концерты в поддержку ЛНР и ДНР. Если бы мы все себя вели иначе, а я бы была активнее… Вот в Германии есть культура протестов, культура защиты прав. Это то, что надо, наверное, воспитывать и прививать. Это конечно, большая работа государства.
Это работа государства, но и общества. Я не сторонник кого-то обвинять, потому что я понимаю, что вся наша жизнь состоит из компромиссов. Просто не всегда можно увидеть границу, когда на эти компромиссы надо прекращать идти. Найти эту границу очень сложно. А когда ты её уже перешёл, то сложно остановиться.
Я согласна. Я высказала свое мнение, но это не значит, что я не буду с ними общаться или не подам руки. Понятно, что я не буду с ними дружить. Это сложно.
Да, это действительно сложно. Я поводу Арбениной к слову скажу. У неё явная антивоенная позиция…
Она не явная. Конечно, в сравнении с Сургановой, да, у нее очень явная позиция. Особенно сейчас. Я очень хочу ей написать огромное спасибо. Мы на связи и она очень большой молодец. Несмотря на запрет её концертов в последнее время, она сейчас выпустила антивоенную песню “Бар-Мицва”, и она большая молодец, что она высказывается, хотя ей сложно, потому что она мать-одиночка, и у неё мама взрослая. И брат. И ей всю семью надо как-то удерживать в нормальном состоянии.
Да, она пригласила на сцену где-то в Сибири, на концерте вдову «героя СВО» или его мать, не помню, точно. Они спели вместе. Но на следующий день Арбенина выпустила песню «Андрей», тоже антивоенную, на мой взгляд, посвященную ее лучшему другу из Украины. Она балансирует. Старается. Пусть лучше так.
Именно об этом я хотел сказать, что два человека из одной когда-то группы с общим тогда мировоззрением умудрились за два десятка лет занять противоположные позиции в вопросе войны.
Сурганова себя повела просто монструозно. Я не знаю, зачем ей это надо. Человек, переживший столько. Человек из детского дома…
Причем я не могу сказать, что человек на это идёт только ради денег. Это какие-то стереотипы в голове, какой-то элемент воспитания, и что человека триггерит вдруг поддержать войну. Я этого понять не могу. У нас общество в России сейчас настолько поляризовано, причём мы даже сами не очень понимаем, почему мы друг друга так не любим, но мы не готовы обсуждать эти проблемы, мы занимаем позицию и не готовы слушать и прощать.
Венедиктов с Альбац недавно что-то обсуждали и у них был спор, что важнее милосердие или справедливость. Вот, кстати, как ты ответишь на этот вопрос?
Мне кажется, нет справедливости — не будет и милосердия.
Вот у Альбац такая же позиция. Я почему-то больше склоняюсь к милосердию. Знаешь, у меня сразу же рефрен к словам Зиновия Гердта в фильме “Место встречи изменить нельзя” про эру милосердия. Для меня справедливость не очевидна, она условна. Не проявим милосердия, не достигнешь справедливости.
Ну давайте проявлять милосердие к олигархам, у которых сейчас арестовали яхты. И будем милосердными, вернём их имущество.
Я бы наоборот предложил их простить, если они помогут свергнуть режим, прекратить войну.
В этом смысле, конечно, если так, то это справедливо. Мы вам индульгенцию, а вы нам, пожалуйста, Путина грохните.
Но многие заранее озвучивают позицию, что прощать нельзя.
Тут я не согласна, люди меняются, надо прощать. Это я могу сказать на своём примере. И это важно. Какое-то время назад у меня была наркозависимость. Очень недавно это было, но я это преодолела и больше года я, как говорят, «чистая», и больше мне не хочется, и это была не трава, это был взрослый серьезный кокаин. И люди меняются, я знаю, что можно измениться.
Здесь в Германии у меня нет клейма, что я «конченый» человек. В России может быть, говорили, все понятно, бывших наркоманов не бывает.
Ярлыки упрощают жизнь. Повесил его и размышлять больше не надо. Когда ты пристрастилась к наркотикам? Из-за чего это произошло?
В первый раз я попробовала в Москве в компании моих богатых друзей-гомосексуалов. Это был бесплатный кокаин, мне не понравилось. После нескольких раз я поняла, что мне элементарно плохо, потом, на выхлопе, на отходняке. Потом я вернулась к этому здесь.
Когда я оказалась в Берлине, я переехала сюда работать, и для меня это был такой дауншифтинг. В том смысле, что down, а не up карьерный. Психологически это было тяжело. Если в Москве я работала в продакшене, приезжала на съёмку на автомобилях, у меня был водитель, был видеоинженер, были операторы, а я была шеф-редактором, у меня было в подчинении какое-то количество людей, то приехав сюда, я взяла штатив на плечо, камеру в рюкзак и побежала в метро и поехала на съёмку. Сама и снимаю, и беру интервью.
Этот «даун» очень здорово меня омолодил профессионально. И мне это понравилось на самом деле, но омолодил он меня видимо не только профессионально, у меня начался внутри своеобразный второй пубертат, чисто психологически, когда – во все тяжкие и ничего не страшно, и о тормозах мы не слышали. Я оказалась опять в новом городе – в столице, которую надо изведать, как тогда в 1995 году – Москву.
Конечно, фоном еще эта эмигрантская депрессия пресловутая. Я не могу сказать, что она у меня прямо эмигрантская, скорее – затяжная, родом из России. Тем не менее депрессия средней тяжести у меня диагностирована. И всё это на фоне нового города, новой страны, новой работы и попытки о себе профессионально заявить по-другому в новой реальности и остаться на том уровне, на котором я привыкла находиться именно как профессионал, чтобы выдавать продукт хорошего журналистского качества.
И начались эти наркотики, как такое обезболивающее — мы чуть-чуть сглаживаем углы, мы снимаем боль. Это был кокаин, потому что он разгоняет, помогает быстро думать и даёт тот самый нужный уровень эйфории, который вот мне необходим для работы. Плохая реклама пошла…
А как тебе кажется, что вот такой дауншифтинг, новый старт в вынужденной эмиграции легче б прошёл, если бы тебе заново так пришлось стартовать в России?
Ой, конечно, нет, в России заново стартовать я бы не смогла. Например, я здесь просыпаюсь утром и мне хреново, потому что я чувствую какой-то уровень одиночества, что-то не складывается, я не могу, не знаю, пойти в гости к маме, например, потому что мама за 2000 километров, или даже неважно по какой причине хреново, но я выхожу, вижу Берлин, и я понимаю, что сам город вокруг, качество жизни здесь, то, что я вижу глазами, то каких людей я встречаю, то, как выглядит метро, в том числе наземное, и я понимаю, что черт побери, на что я жалуюсь?!
Я счастливый человек, потому что этот город, во-первых, абсолютно созвучен мне, он открытый для всех, он мультикультурный, меня никто никогда не осудит. В Москве вообще было не принято из дома выходить без мейкапа, например, или быть одетым, как ни попадя, а здесь все как ни попадя. В этом есть такая невероятная свобода! Когда ты сидишь и напротив тебя люди всех цветов кожи, и тут я слышу английский, тут арабский, тут украинский, и чем больше я его слышу, тем мне спокойней, тут я слышу русский, и я понимаю, что таких, как я дауншифтеров, заново стартующих, полно – вот они все. И здесь я себя чувствую социально защищённой, меня государство не бросит.
Согласен, в том числе эта социальная защита позволяет как раз сделать этот новый старт. Есть ощущение переклички этой свободы с теми ощущениями, которые у тебя были в каком-нибудь 1999 году в Москве?
Есть. Они действительно есть, но сейчас скажу словами Артемия Троицкого, с которым я делала интервью в начале второго срока Путина в сентября 2004 года, и Троицкий тогда сказал, что при Ельцине была свобода, но не было безопасности, а при Путине нет ни свободы, ни безопасности.
Нам уже в то время позвонил Роднянский, который возглавлял СТС, и сказал снимайте этот репортаж с эфира, потому что мне проще лишиться сегмента бизнеса, чем бизнеса целиком. И мы тогда сняли материал – это было первое проявление цензуры. И, что важно, при Ельцине действительно свобода была, но здесь в Берлине я ещё чувствую безопасность.
У тебя такая милая такса. Давно уже у тебя?
Такса у меня появилась в 2016-ом году, до отъезда. В марте она найдена, у нас с ней много общего, потому что и я, и она — мы из подмосковных электричек. Только разные направления. Я все девяностые ездила в электричке Калуга-Москва, когда электричка шла 4 часа, потому что я по выходным работала в Калуге на радио, а остальное время училась в Москве. А Зиночка найдена в подмосковной электричке другого направления.
Её таскал алкаш, она была вся грязная, бедная, чумазенькая, больная и вообще беременная, как выяснилось, и одна женщина-полицейская взяла ее себе на передержку, а потом бросила клич, потому что у неё овчарки уже были и они не уживались, и через друзей моя лучшая подруга Милана прислала фото таксы и предложила взять ее на передержку на две недели. Милана, кстати, сейчас моя коллега, и прямо мой родственник. Мы с ней и с Олей Романовой вместе сейчас делаем наш правозащитный фонд.
Когда я увидела фотографию, то поняла, что я не смогу через две недели ее куда-то отдать, и что она будет у меня на всю жизнь, и я её забрала. Так мы с ней путешествуем, она уже где только не была.

Я не буду расспрашивать про все твои большие работы, которые у тебя были до отъезда, там были превосходные фильмы и про Строганову, и про Образцову, и многие другие. Иначе нам не хватит времени. Я где-то читал, что над фильмом про Образцову ты 15 лет работала?
Меньше. Просто я с ней познакомилась в начале нулевых, и поскольку потом я стала связана с миром оперы, появилась такая связь через личное, кстати. Я периодически к ней возвращалась, мы что-то снимали, она подпускала все ближе, ближе и поэтому получилось сделать фильм. Но, к сожалению, она ушла из жизни, а задумывалось-то при жизни закончить фильм. Все скоропостижно случилось.
Расскажи, был ли какой-то триггер, почему ты решила уехать, и если был, то какой? Если нет, то почему задумалась об отъезде вообще, ведь у тебя в России была хорошая карьера, связи, высокооплачиваемая работа. Почему решила это все бросить?
Потому что это все потеряло смысл, потому что это все само себя обесценило. Человек, с которым я работала вместе 14 лет с 2003 года и который был продюсером – Серёжа Майоров – обманул не только меня, но и большую часть коллектива. Это был колоссальный обман с его стороны, я не устаю об этом говорить и буду говорить, потому что до сих пор есть люди люди, у которых есть семьи, и которым он до сих пор не вернул долги.
Бог со мной, мне ничего не надо, никаких денег от него. Я не представляла, что такое возможно после стольких лет не просто совместной работы, а именно дружбы. Мы были лучшими друзьями, были как родственники, мы вместе ездили отдыхать. И вдруг вскрываются обманы один за другим. И я понимаю, что у меня рушится весь этот конструкт благополучия, весь выстроенный мной мир. Помимо того, что он стал сыпаться, я понимала, что чем дальше мы заходим по пути соглашательства, тем меньше то, что я делаю, имеет отношение к профессии под названием журналистика.
Нам уже такие вещи на поправки присылали из Первого канала, не говоря об НТВ, хотя у нас была, повторюсь, полянка или делянка, где типа только культурка, как все называли, что там цензурировать? И этот частный обман генеральным продюсером, это кидалово на серьезные деньги, скажем так, невыполнение своих обязательств передо мной и перед всем коллективом, это все наложилось ещё на второй обман, когда я поняла, что я начинаю обманывать зрителей, что я вынуждена идти на этот подлог и обман, потому что гайки закручиваются уже настолько, что всю нашу чудесную культурную полянку тоже пытаются взрыхлить в сторону тех скреп, которые на государственном уровне диктовались и диктуются.
А что ты называешь это обманом? Ведь журналиста в России не просят говорить неправду, а лишь не озвучивать какие-то факты или темы?
Что значит “его не просят говорить неправду”?! Его просят говорить неправду! Когда я отправляла сценарий фильма на редактуру, когда сценарий у меня принимал Первый канал, потому что они у нас заказывали производство фильма, мне прямо говорили, что здесь надо переделать, потому что у вас финал фильма совершенно не патриотично выглядит.
Речь шла об истории оперных певцов, уехавших из России и состоявшихся во всем мире, кроме России, потому что никому они в России не нужны, но при этом весь мир им рукоплещет. Где ж я возьму тут патриотический финал, как они говорили, если его просто нет, если они не хотят возвращаться сюда?! А мне говорили, что надо менять, добавить в финале лирическую музыку, как будто они ностальгируют.
Или из фильма вырезали кусок про коррупцию в консерватории, а в ней этой коррупции и ксенофобии выше крыши! На что мне говорили — нет, мы не можем, мы не касаемся этих проблем. И всегда ты должна проходить между струйками. Я поняла в какой-то момент, что это уже снежный ком из обмана. Тут и меня обманули, и я должна обманывать.
Разве обманывать? Или просто умалчивать и недоговаривать?
В данном случае это одно и тоже. Акценты можно расставить как угодно: я перемонтирую видео и у меня будет человек под лирическую музыку как бы ностальгировать. У зрителя в итоге сложится такое сахарно-приторное впечатление. Это обман!
Я добавляю образ герою, которого у него нет. Добавляю то, чего с ним не происходит, то, чего он не испытывает. Я беру и обманываю его, его семью, себя и всю многомиллионную аудиторию, которые посмотрят потом этот фильм.
Почему, по-твоему, Сергей так поступил?
От страха. Он набрал кучу кредитов, начал запускать второе направление бизнеса и в какой-то момент прогорел. У нас было документальное телевизионное производство, а он запустил еще сериальное производство. Оно сначала пошло, потом стало сбоить, появились многомиллионные долги.
Страх же такая штука, которая делает с людьми невероятные вещи: кого-то вводит в оцепенение, кого-то делает чудовищем. И он не справился с этим как человек и его моральные качества сильно пострадали.
Современная журналистика сильно изменилась с того момента, как ты стала работать в ней?
В России все перевернулось с ног на голову.
Только ли в России?
Мне надо было работать не только в России, чтобы я понимала. Но я прекрасно понимаю постулаты BBC, я знаю, как функционируют немецкие СМИ, где нужно документальное подтверждение каждого кадра, когда я должна давать бумажку на каждый кадр, откуда он взят и почему он здесь. Я беру ответственность за каждое своё слово. И здесь все очень четко с тем, что касается фактчекинга.
Если мы берём школу BBC, то мне кажется, что это вообще такая основа основ. Мы как журналисты над ситуацией, мы наблюдаем — я не могу принимать ту или другую сторону. Хотя сейчас, надо заметить, в ситуации освещения войны Израиля с террористами ХАМАС, англичане лажают часто. Но я не о нынешнем бибиси, а об их стандартах.
Я должна показывать факты. Да, я их компоную, так как я их компоную, потому что я автор данного репортажа, сюжета или документального фильма, но я должна показать все стороны.
Если есть конфликт, журналист обязан дать обе стороны этого конфликта. Надо ли давать слово российским агрессорам при освещении войны в Украине?
Надо сопоставлять. Понятно, что российский агрессор все передёргивает, и если мы показываем факт, например, вот то, что сейчас происходит в Буче, а вот как об этом рассказывают российские СМИ, и таким образом, у западного зрителя складывается абсолютно чёткая картина. Вот как себя ведёт власть в России, и что она льёт в уши своему населению, а вот те реальные подтвержденные факты, которые мы показываем. Картинка говорит сама за себя, здесь ничего комментировать не надо.
Сейчас выходит программа Fake news на одном из немецких каналов, любимый теперь формат, её ведёт мой коллега Костя Гольденцвайг на немецком, и он как раз показывает немцам, как себя ведёт российская пропаганда и что россияне не чудовища. Им просто транслируют это так. При этом, конечно, мы показываем и немцев, которые сейчас в двух землях, в Баварии и в Гессене, проголосовали на последних выборах ландтагов за ультраправую AfD (Альтернатива для Германии — прим. ред.), которая заняла второе место. Альтернатива для Германии – это правые популисты, это тот же самый Путин. И об этом тоже в Германии говорят.
При этом глава AfD – семейная лесбиянка.
Да, и она говорит, что она придерживается традиционных ценностей. У этой Алисы Вайдель в голове полный… у нее в голове кислая капуста немецкая. Я видела интервью, где ей задают вопрос, что она же сама живёт с женщиной. На что она отвечает, да, но у нас нормальная семья, у нас традиционные ценности, а не все вот эти ЛГБТ.
Это надо быть идиотом, чтобы сказать, что, конечно, мы пойдём голосовать за её партию. Они также противоречат сами себе, как противоречит сама себе вся российская пропаганда. Немцы молодцы, они провели расследование и выяснили, что эту “прекрасную” Альтернативу для Германии финансирует отчасти и Кремль тоже.
Недавно упала ракета рынок в одном из городов в Украине, и оказалось, что это была украинская ракета, она там случайно туда упала. И западные журналисты опубликовали свое расследование, что это именно украинская ракета была. И Украина очень возмущалась по этому поводу.
Твоё мнение: вообще освещать военные преступления надо с обеих сторон, несмотря на то, кто агрессор, а кто пострадавший?
Да, это был постулат девяностых при освещении чеченских войн. Тогда было эталонное освещение войны на свободных российских телеканалах, когда давали слово и федералам, и боевикам, сепаратистам.
Сейчас мы брали интервью для нашего YouTube-канала у семейной пары из местечка под названием Олешки на правом берегу напротив Херсона. Когда случился прорыв Каховского водохранилища, они оказались затоплены, потом ситуация нормализовалась, они продолжили там жить и в один прекрасный момент во дворе их дома падает и разрывается снаряд, и женщину – одну из наших героинь – ранит. Она получает серьёзное осколочное ранение, ей делали трепанацию черепа, и Оля Романова брала у них интервью.
Она у них спрашивает, чей это был снаряд, чья это была ракета? Они говорят – украинская. Она говорит, а что вы об этом думаете? На что они отвечают, а как по-другому, это война, если бы это все не началось 24 февраля 2022 года, Нину Шпачинскую, нашу героиню, не ранило и в наш участок ракета бы не прилетела.
Ты решила уехать, потому что не хотела уходить из профессии?
Просто появилась такая возможность. Мои друзья поехали и предложили мне воспользоваться этой возможностью сделать это вместе с ними. Появилась возможность получить в Берлине работу, потому что набирал обороты русскоговорящий телеканал, которому нужны были авторы, корреспонденты, репортёры, а я на тот момент уже освоила операторскую профессию.
Требовались универсалы, которые могли снимать и писать, и потом собирать это все воедино. Я этой счастливой случайностью воспользовалась. Если бы ее не было мой дауншифтинг заключался в том, что я поехала в какие-то регионы, где ещё на тот момент сохранялись независимые СМИ и сотрудничала как-то с ними.
Сейчас ты в каком статусе ты находишься?
У меня ВНЖ, но я подаю сейчас на ПМЖ. Спустя уже 5 лет я имею право получить ПМЖ, и я выучила язык до нужного уровня b1. Я все равно буду продолжать учить язык, потому что я хочу на немецком поработать тоже. И как только я его получу, я смогу поехать в Россию, пока я не могу, потому что есть определённого рода опасения.
А когда появятся ПМЖ, они разве куда-то денутся?
Конечно, потому что у меня будет постоянный вид на жительство в Германии. С этим связываться никто не будет из спецслужб. Мы стали иноагентами месяц назад, хотя у нас канал, зарегистрированный в Германии, немецкий фонд, почему нас Минюст признал иноагентами непонятно. Как можно признать иноагентом иностранное СМИ?
Помимо этого я работаю с Олей Романовой, у которой несколько уголовных дел в России, и мы в плотной связке выпускаем такие материалы, которые совсем противоречат нынешнему российскому вектору развития.
Мне кажется, что не стоит рисковать и с ПМЖ ехать.
Уж больно хочется, но гражданство, конечно, долго ждать. Сначала надо ПМЖ получить, потом только я могу податься на паспорт. Но нужно будет сдать экзамен о знании истории Германии. У меня несколько друзей уже получили немецкие паспорта, и Германия наконец-то приняла закон, что можно иметь два гражданства.
Если раньше приходилось отказываться от российского гражданства, сейчас нет, потому что если я откажусь от российского гражданства, то как я поеду к маме с бабушкой? А российское посольство мне может визу и не дать.
Вообще планируешь получать немецкое гражданство?
Конечно. А куда деваться-то?
Планируешь возвращаться в Россию когда-нибудь?
Когда я почувствую, что можно туда вернуться, и я буду полезна, что я нужна там со всеми теми представлениями о профессии, которые у меня есть, и когда мои представления о работе и существовании человека в правовом государстве совпадут с российской реальностью, тогда я с удовольствием приеду туда.
Если это опять будет страна, которой я буду гордиться, и для которой я буду делать что-то хорошее. Мы для неё и сейчас делаем много. Я сейчас карму чищу по полной программе. И я горжусь Германией. Сейчас мне стыдно за Россию.
И даже через 10 лет, получив гражданство и овладев беглым немецким?
Если там мне станет профессионально интереснее, чем здесь, да. Если я пойму, что это нужно делать, находясь там, и я могу это делать без риска для жизни, то да, конечно. Между прочим, в Германии корреспонденты и в 65 лет бегают «по полям», и это считается почётным. Здесь самые крутые корреспонденты все возрастные, потому что они понимают, сколько весит слово и как оно может изменить все.

Как вы с Ольгой Романовой пришли к созданию вашего проекта MRR?
Одно дело работать здесь и сотрудничать с каналом, который рассказывает новости и делает какие-то передачи для живущих здесь, для некого комьюнити, довольно ограниченного. Делать эмигрантское СМИ. А другое дело, находясь тут, быть полезным той стране, которой сейчас плохо и из которой ты уехал, и за которую тебе больно.
У Оли Романовой есть фонд “Русь сидящая”, много-много лет, сейчас она им руководит дистанционно, и она не прекращала эту работу, уехав сюда, у неё там много филиалов, и у неё самой огромный уникальный журналистский опыт. И мы подумали, почему бы это не совместить наши способности и возможности с нашим желанием сделать мир лучше.
В Германии все хорошо, она сама себя делает лучше, и они молодцы. А там в России раковая опухоль, давайте пытаться хотя бы как-то удалять метастазы.
Мой лучший друг продюсер Милана Минаева (с большим международным опытом) придумала это название, и мы втроём объединились, просто разговаривая вечерами и понимая, что действительно сможем помочь тем людям, которые там остались и у которых нет такой чудесной возможности свалить, потому что мы, например, платим гонорары корреспондентам, которые там работают, и, помимо прочего, для нас это будет ещё такое профессиональное спасение.
Ты, живя в Германии, замечаешь, что от войны там устали и поддержка Украины просто среди обывателей уменьшается?
Да, уменьшается. Усталость есть, и немцы, мои знакомые, которые раньше помогали, вдруг начинают говорить, что они устали от политики. Они что-то делают, наверное, донатят по-прежнему в какие-то фонды, но уже без какой-либо активности.
Впервые после начала войны я увидела в Берлине возле Бранденбургских ворот в день объединения Германии 3 октября демонстрацию, не то, чтобы многолюдную, но тем не менее, главный лозунг которой был прекратить поставки вооружения Украине.
Ты соответствуешь сама себе?
Ой, конечно, Юрий Норштейн: “Счастье – это когда ты соответствуешь самому себе”. Ты знаешь, я могу сказать со всей уверенностью, что да. Я прошла здесь заново эту пубертатную ломку с поиском себя и новым стартом.
Год назад я бы на этот вопрос ответила, что нет. Сейчас – да. Мне всегда хотелось просыпаться утром и делать что-то, и работать, и жить интересно, так, чтобы вечером я подумала бы и сказала, что я талантливо прожила этот день. Я молодец. Вот сейчас я понимаю, что я соответствую сама себе. Я абсолютно вернулась к себе, у меня теперь нет ни тумана, ни растерянности, ни ощущения бездны.
Я вовлеклась здесь в волонтёрскую историю, и у нас появилось понятие “вокзал” в Берлине, а это значит беженцы из Украины, это значит какая-то помощь. Хоть какая-то. На самом деле мы же сами себе помогаем, помогая беженцам. И делая наш канал МRR – то же самое. И то, что смелая Россия настоящего существует, – мы это стараемся показывать и доказывать, и представьте себе, это возможно, даже если живешь в Берлине.
Как думаешь, станем мы теперь экстремистами в свете последних инициатив Минюста?
Сейчас мы делаем большой выпуск для нашего ютьюба о правозащитной инициативе «ДЕЛО ЛГБТ+». Один из основателей этой инициативы, юрист Владимир Комов, более чем уверен, что в итоге все оставшиеся в России проекты и инициативы, связанные с поддержкой ЛГБТ-людей, будут признаны экстремистскими. И очень скоро.
Власти в течение последней пары лет активно внедряют в сознание россиян, что само существование ЛГБТ-людей – прямая угроза национальной безопасности. Вот и командир спецназа «Ахмат» недавно понес то же самое в массы.
Но тут есть и другая сторона, а именно то, что несут туда же прогрессивные либералы. В своем телеграм-канале Екатерина Шульман прокомментировала порыв Минюста признать некое мифическое международное ЛГБТ-движение экстремистским вот так: «Простите, а кроме приключений органов мочеполовой системы у нас другая предвыборная повестка имеется?».
В тот момент, когда я прочитала этот ее комментарий, мне стало совсем жутко. Приключения мочеполовой системы? Ну-ну…
Выражаем благодарность за предоставленный материал
журналисту Валерию Клепкину и фотографу Никите Эрфену